.jpg)
|
Тематический раздел: Дружба, доверие и конфликт: от истории понятий к исследованию социальной онтологии
|
|
13–29
|
В современном обществе дружба по-видимому относится к области частного. Возникновение дружбы в публичном пространстве связывают с коррупцией. Это тем более применимо к друзьям в политике, то есть к ситуациям, когда дружба является частью неформального политического процесса, направленного на получение доступа к политической власти или ее удержанию. Этот реляционный аспект политической дружбы необходимо отличать от более структурного и институционального понимания политической дружбы, которое политическая философия дает в терминах «гражданской дружбы». В этом и содержится смысл политического, в рамках которого публичное пространство существует в условиях, которые должны быть обеспечены для конфликтной политической коммуникации или коллективного политического действия. В этом смысле идея и теория «гражданской дружбы» указывает на реляционные и организационные аспекты коллективного действия, а также на те разделяемые нормы, которые выражаются и обсуждаются в публичной сфере. Ни одна серьезная социологическая теория не может обойти тот факт, что сегодня демократии во многих регионах мира находятся под угрозой, поскольку утрачено понимание, где пролегают границы доверия и, следовательно, гражданства, а также того, что позволяет людям сосуществовать, особенно, в контексте глобализации и миграции. В отношении теорий доверия гражданская дружба представляет собой гражданское общество, гражданскую и политическую культуру, включающую практики и ожидания в обществе по поводу того, как жить и работать вместе, как общаться политически, чтобы влиять на политику, и как менять вещи вокруг себя. Наконец, политическая теория дружбы также предостерегает от злоупотребления властью и возрождения единства и вражды в обществе на основе различий и множественности перспектив. |
|
|
30–56
|
Гоббс считал, что естественное состояние — это состояние войны, поскольку оно определяется фундаментальным и обобщенным недоверием. Выход из естественного состояния и конфликтов, которые оно неизбежно влечет, предполагает установление доверия. Однако обсуждение «доверия» в философии чаще всего фокусируется либо на изолированных диадах индивидов, доверяющих друг другу, либо на доверии в больших безликих институтах. Задача данной статьи — заполнить пробел между этими двумя крайностями путем анализа «топологии сообществ доверия». Такие сообщества можно лучше всего представить как взаимосвязанные диадические отношения, которые приближены к идеалу поскольку они симметричны, рефлексивны и транзитивны. Немногие сообщества доверия соответствуют этому описанию, и те, что приближаются к нему, это, как правило, небольшие сообщества (от 3 до 15 индивидов). Именно в таких сообществах доверия возможно появление различных важных рациональных, познавательных, культурных благ и душевного спокойствия. Однако в сообществах доверия становятся возможными также многие сомнительные феномены. Сообщества могут изолироваться от окружающего общества, и тем самым стать источником недоверия со стороны окружения. Они могут вынудить своих членов отказаться от общественных благ в пользу родовых или частных благ. Этими недостатками сообщества доверия обязаны тем же самым механизмам, которые придают им положительную, рациональную, эпистемическую, культурную и психическую ценность, поэтому последствия работы этих механизмов можно только смягчить, но не исключить целиком. |
|
|
57–75
|
Автор рассматривает доверие как одно из самых интересных и в то же время неоднозначных социологических понятий, поскольку оно широко используется и в повседневной коммуникации, и в научном дискурсе как само собой разумеющееся и не требующее специальных разъяснений и ситуативных конкретизаций. Кроме того, социология вряд ли может предъявить претензии на монопольное владение данным понятием — исследования доверия междисциплинарны, что порождает разнообразные его концептуальные и операциональные определения, размывающие дисциплинарные границы между теоретическими и эмпирическими исследованиями доверия. В первой части статьи обозначены основные компоненты социологического анализа доверия (причины и последствия социального доверия и недоверия; детерминанты и практические результаты разных «типов» и «уровней» доверия; попытки отличить доверие от иных, близких ему семантически понятий; общепринятые концептуализации доверия; базовые трактовки доверия как способа избегания неопределенности и т. д.). Во второй и третьей частях статьи охарактеризованы цели эмпирического изучения доверия в рамках количественного и качественного подходов. В первом случае, как правило, измеряется уровень социального и политического доверия в ходе масштабных опросов общественного мнения, нередко в сравнительном или мониторинговом формате. В рамках качественного подхода исследователи пытаются понять, что доверие означает для людей, как и почему они выбирают те или иные слова для описания доверия в разных ситуациях. Четвертая часть статьи посвящена повседневному дискурсивному конструированию доверия: автор считает нарративный анализ оптимальным методологическим выбором (при условии контекстуализации его результатов данными количественных и качественных исследований) для обнаружения типичных механизмов дискурсивного конституирования доверия в повседневных практиках и иллюстрирует свое предположение полуформализованными интервью, проведенными в сельских поселениях России. Статью завершают несколько выводов о тех достижениях и проблемах социологического анализа доверия, которые определяют его неоднозначное нынешнее положение в предметном поле нашей дисциплины. |
|
|
76–95
|
В статье рассматриваются режимы близости и сексуальности в российских женских колониях. Российская пенитенциарная система в целом и, опыт осужденных женщин, женские идентичности и практики наказания редко оказываются в фокусе интереса отечественных исследователей, оставаясь в пространстве маргинализации и отсутствия критического общественного обсуждения и социального исследования. Данная статья является вкладом в актуальные дискуссии о значении и последствиях близких отношений в колонии, контекст которых варьируется от дружеских и любовных — до использования и эксплуатации при жестком контроле гендерного режима, как со стороны администрации, так и неформальной системы власти, характерной для внутритюремной иерархии колонии. Женское тело становится дополнительным механизмом поддержания репрессивного характера исправительной колонии, укрепления патриархальных устоев и поддержания высокого уровня гомофобии в российском обществе в целом. Эмпирической базой анализа стали 33 глубинных интервью с элементами биографического с женщинами от 18 до 55 лет, отбывавших наказание по разным статьям (распространение наркотиков, кража, мошенничество, убийство). Я утверждаю, что гендерный режим в исправительных учреждениях для женщин становится дополнительным механизмом усиления патриархатного режима в российском обществе. Несмотря на то, что режим не предусмотрено законом, оно становится законом из-за крайней объективации женщин, женского тела и женского статуса. |
|
|
96–113
|
В настоящий момент наблюдаются серьезные изменения в социокультурном пространстве. В первую очередь, речь идет о процессе проникновения в него особых семиотических конструктов. Их можно описать как политические мифы. И значительная их часть тесно связана с концепцией славы (прежде всего, государственной) — как в прошлом, так и в настоящем и будущем времени. Эта слава может рассматриваться как утерянная (развал СССР) или же возрожденная (вхождение Крыма в состав Российской Федерации в 2014). Концепции славы и победы (прежде всего, победы в Великой Отечественной войне) настолько тесно связаны в российском политическом дискурсе, что все заметнее становится процесс своего рода их присвоения истеблишментом. Понятие политического мифа давно вышло за рамки нарратива, и теперь особое значение приобретает его семиотическая структура. Миф представляет собой знак, трансформированный идеологией, и, с другой стороны, является актором, который создает (или, по меньшей мере, трансформирует) социокультурную реальность вокруг себя. В качестве инструмента здесь выступает мем, который укоренен в сфере медиа. При этом организации пространства мифа, как правило, соотносится с понятием хронотопа, предложенным М. Бахтиным. В современном российском политическом дискурсе содержится три доминирующих политических мифа, активно апеллирующих к концепту славы. Во-первых, это миф о Византийской империи и утраченной славе, которой противопоставляется так называемая «Пятая империя». Во-вторых, речь идет о мифе о «вежливых людях», при создании которого был задействован соответствующий мем. Наконец, особое место занимает миф о двадцати восьми героях-панфиловцах. |
|
|
114–129
|
Феномен дружбы еще в античности стал объектом пристального внимания со стороны философии. Аристотель в «Никомаховой этике» связывает с дружбой политическое существование человека, так как полагает, что и сам полис строится по аналогии с дружескими союзами. Цицерон также видел в дружбе прообраз социальности. Постепенно на смену такому представлению приходит романтическая концепция, где дружба понимается как субъективное, чувственное сближение индивидов, доступное весьма немногим. Романтической концепции придерживались и Кант, и Гегель. Русская религиозная философия, с одной стороны, формируется под воздействием немецкого романтизма и свойственного ему понимания дружбы, но, с другой стороны, сразу же возвращает концепту дружбы социальное содержание. У Хомякова дружба устанавливается прежде всего между властью и народом, и этот дружеский союз отличает русскую культуру от западноевропейской. Однако русскую религиозно-философскую мысль отличает стремление понять феномен дружбы не сам по себе, а в его связи с понятиями вражды и братства. Возникает образ братской сплоченности, с которым Вл. Соловьев связывает главную угрозу христианству, идущую от дальневосточной цивилизации, тогда как у Н. Федорова, наоборот, в братской сплоченности, сохранившейся в русской и в китайской аграрной общине, таится залог спасения от «небратского» Запада. Связь концепта дружбы и братства проясняется в XX столетии в западноевропейской мысли, в частности, в представлениях о «мистическом акосмизме братства» у М. Вебера и Х. Арендт. |
|
|
130–145
|
В статье рассматривается понимание политического авторитета и его отношения с вопросом доверия, представленное в работах Бертрана де Жувенеля. Он предлагает провокационный и особенный взгляд на политический авторитет, рассматривая его в первую очередь как способ учреждения регулярных и надежных социальных отношений между различными участниками сообщества. В рамках своей аргументации Жувенель выделяет два типа политического авторитета, которые обозначаются как «власть» и «авторитет». В то время, как власть в целом возникает в результате сдерживания индивидуального действия в какой-либо области в основном посредством воззвания к личным интересам или прямого повеления, авторитет проявляется в первую очередь как харизматический или неформальный тип лидерства, влияющий на поведений человека косвенным образом. Различие между властью и авторитетом, как отмечает Жувенель, предполагает двойную концепцию доверия как этического и эпистемического принципа. Если власть обеспечивает необходимую регулярность при помощи опосредованной информации, которая обычно встроена в определенные бюрократические организации, то авторитет организует более косвенный тип регулярности, учреждая «узлы» социальной регулярности, в частности, через качества личного характера. Соотношение двух типов можно рассмотреть как предполагающее некое равновесие. Пока власть имеет дело с сокращением внешнего эффекта и рисков, которые предполагаются человеческим общением, и позволяет базовое существование, авторитет дает более широкий набор для человеческого выбора и в то же время удерживает власть от перегрузок социальной ткани. Основной фокус политической теории Жувенеля состоит в сохранении неуловимой и скрытой социальной связи, которая позволяет авторитету играть свою особенную роль и в то же время сохранять дистанцию от более косвенных форм политической власти. |
|
|
146–161
|
В статье рассматривается понятие дружбы в статьях Х.-Г. Гадамера. Идея дружбы является частью его концепции практической философии. Отправной точкой его размышлений является греческая философия, в частности, взгляды Платона и Аристотеля на феномен дружбы. Гадамер дополняет концепцию дружбы идеями, которые традиционно связываются с философской герменевтикой, а именно трансформативный аспект понимания, взаимосвязь понимания и самопонимания. Понятие дружбы рассматривается Гадамером в контексте актуальных проблем современного сообщества, которое он оценивает, как общество анонимной ответственности. Предлагаемое им понимание дружбы является вкладом в современную дискуссию о дружбе. Он противопоставляет свое представление тем философским школам, которые в качестве возможного источника социальности видят самосознание. Гадамер, напротив, подчеркивает необходимость межличностного взаимного отношения, которое становится основанием любых социальных связей. Дружба в понимании Гадамера имеет значение не только в рамках общества или сообщества, но обладает также характерной телеологией. Значение дружбы состоит в том, что она, как и вообще всякий аутентичный опыт, по Гадамеру, будь то опыт понимания, взаимодействия с произведением искусства, или то, что Гадамер в поздних работах понимает под практической философией, приводит к приросту бытия. Дружба сама по себе является некоторым особенным видом практики, в котором невозможно различить процесс и результат этого процесса. |
Статьи
|
|
162–175
|
В рамках данной статьи анализируются основные категории социальной философии Фомы Аквинского, такие, как народ (populus), совокупность (multitudo) государство/республика (Respublica). В следующей статье (Часть 2) будет представлено исследование понятий общность (communitas/communicatio) и общение (societas). Обращает на себя внимание серьезный дефицит исследовательской литературы по социальной мысли Аквината. Учеными в основном осмысляется политическая мысль великого доминиканца, в то время, как социальная остается практически забытой. Работы И. Т. Эшмана, И. Конгара, Дж. Катто, представляющие собой исключение из этого утверждения, подробно анализируются в статье. Среди основных результатов проведенного исследования можно указать следующие. Во-первых, для философии Фомы характерна десемантизация понятия «народ», которое, по сути, уравнивается в значении с понятием «совокупность», что приводит к потере связи между понятиями народа и республики. Народ в теории Аквината теряет свое политическое значение, характерное для теорий Цицерона и Августина, господствовавших в политико-социальной мысли предшествовавшего периода. Взамен народ определяется как совокупность людей, проживающих на определенной территории и объединенных общими законами и общим образом жизни. В онтологическом смысле, народ определяется Фомой как материя, тогда как Respublica как форма. По сути дела, Аквинат формулирует одну из первых теорий протогосударства. |
|
|
176–201
|
В данной статье с позиции теории религиозного рынка обсуждается проблема разрыва между показателями религиозной самоидентификации (69%) и показателями вовлеченности в религиозные практики (3%), а также связанное с этим отсутствие следствий религиозности на данных массовых опросов в современном российском обществе. Напротив, влияние религиозности на ценности, социальные болезни, семейное и репродуктивное поведение оказывается очень сильным для практикующих православных (И. Забаев, Д. Орешина, Е. Пруцкова). Существующие исследования, посвященные анализу разрыва между показателями самоидентификации и вовлеченности, интерпретируют ситуацию с позиции теории секуляризации. В статье предложено переосмысление религиозных процессов в России со стороны предложения. На основании теории религиозной экономики (Р. Старк, В. Бейнбридж, Р. Финке, Л. Ианнаконе и др.) предлагается модель религиозного рынка для стран с религиозной монополией. Моделируются различные оценки религиозного предложения в зависимости от среднего времени исповеди. В статье показано, что существенным ограничивающим фактором религиозного предложения в России остается недоступность священника для регулярного участия в исповеди. На основании модели религиозного предложения предлагается альтернативная по отношению к существующему научному дискурсу гипотеза для объяснения разрыва между православной самоидентификацией и вовлеченностью в практики исповеди и причастия в современной России. |
|
|
202–214
|
В статье описываются гендерные контракты и модели отцовства в современном российском среднем классе. Приводятся результаты анализа глубинных интервью, на основании которых делается вывод о том, что для современных мужчин — представителей среднего класса отцовство носит бóльшую ценность, чем для поколения их отцов. Показывается, что для современного российского общества характерно сосуществование эгалитарных и традиционалистских тенденций в гендерных отношениях: с одной стороны, наблюдается появление новых интерпретаций и практик, таких как вовлеченное отцовство, а с другой — усиление традиционных образцов маскулинности и отцовства, исключающий отцов из сферы родительства. Распространению вовлеченного отцовства в России препятствуют экономические факторы и ригидные установки относительно внутрисемейного гендерного контракта. Отцы традиционного типа склонны дублировать ролевую модель поведения своих отцов. Явление «нового отцовства», возникшее на Западе как либеральное, в России легло на другую, скорее консервативную, почву. Эгалитарные установки относительно семейного гендерного контракта у отцов «нового» типа, принадлежащих к периферии ядра среднего класса, больше связаны с экономической необходимостью в доходе, поступающем от обоих родителей, чем с признанием права матери ребенка на карьерную самореализацию. Можно сказать, что негативный, «узкий» дискурс отцовства, оставшийся с советских времен, до сих пор влияет на самоощущение и мировоззрение отцов. Современная семья во многом остается «пространством борьбы», причем борьбы разнонаправленной — борьбы за выживание и за власть, борьбы за эгалитарный гендерный порядок, борьбы против дискриминации мужчин в сфере родительства и устаревших традиционных установок относительно ролей отца и матери или, наоборот, борьбы за сохранение этих установок. |
Рецензии
|
.jpg)

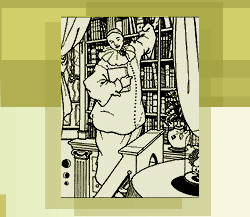

.png)

.png)


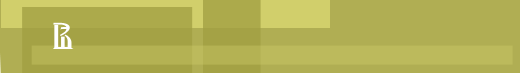
 ©
© 