.jpg)
|
Политическая социология
|
|
9–32
|
В статье рассматривается понятие христианской эсхатологии катехон, мыслимый как совокупность факторов, удерживающих человечество от планетарной катастрофы в рамках темпоральности «оставшегося времени». Исходя из обетования христианской теологии о неизбежности наступления ἔσχατον’а, т.е. конца времен, обсуждаются условия (не)продления оставшегося времени. Во введении демонстрируется актуальность данной проблематики и задается общая теоретическая рамка исследования. В первой части для описания темпоральности «политических тел» используется предложенное Э. Канторовичем различение времени смертных (tempus) и вечности ангелов (aevum), чья комбинация срочной вечности составляет время политических союзов. Обращение к античной и новозаветной традиции различения длящегося времени χρόνος и судьбоносных моментов καιρός позволяет интерпретировать время политических тел как цепь (не)благоприятных кайросов, каждый из которых может стать последним. Во второй части дается определение места политических тел как констелляции: 1) территориального положения на земле, 2) (вне)пространственного положения в мироздании, 3) точки местоприложения сил в отношении Другого, а также 4) места самоидентификации. В основной части моделируются возможные исходы вмешательства кайротической темпоральности в бытие политических тел. Предлагается модель «по де Серто», в которой вторжение времени в форме сконцентрированной мудрости (metis) в исходное место влечет его улучшение, а также модель «по Оже», в которой возникает противоположная тенденция последовательного ухудшения изначального места. В четвертой части описываются темпоральности «времени метанойи» и «сомнамбулического времени», соответствующие вторжению (не)благоприятного кайроса в моделях «по Серто» и «по Оже». Делается вывод о корреляции реконструированных темпоральностей катехоническим модальностям сдерживания и трансгрессии в горизонте ὥρα («времени, установленном Богом»). В итоговом разделе обе модели объединяются в понятии «катехонической оси», действие которой как сдерживает наступление катастрофы, так и подталкивает к ней в зависимости от того, насколько люди распознают благоприятный кайрос. В заключении делается вывод о том, что катехон как сумма сил сдерживания соответствует времени успешного действия в условиях кайротической темпоральности, что способствует восстановлению связности пространственного и политико-культурного порядка сосуществования политических союзов и человечества вообще. «Оставшееся время» длится ровно столько, сколько возможно катехоническое успешное действие. |
|
|
33–50
|
Статья рассматривает относительно новое течение внутри классической республиканской традиции — плебейский республиканизм. Оно характеризуется особым вниманием к интерпретации трудов Макиавелли как автора, настаивавшего на продуктивном характере конфликта между патрициями и плебсом в Риме республиканских времен и надеявшегося подобным же образом институционализировать конфликт между народом и знатью в современной ему Флоренции. Исходя из такого прочтения Макиавелли, предлагается возродить институт народных трибунов и в нынешних либерально-демократических системах, чтобы предотвратить их неизбежную с точки зрения плебейского республиканизма олигархизацию. Трибунат может формироваться как на местном или региональном, так и на федеральном либо национально-государственном уровне. Для этого он должен опираться на разветвленную сеть первичных народных собраний. Статья рассматривает разные варианты предлагаемых подобных реформ и оценивает их последствия как в западных политических системах, так и в России. |
|
|
51–70
|
С момента вхождения концепта харизмы в язык социальных наук и политической практики в его функционировании происходили существенные эволюции и вариации. Уже сам Макс Вебер различал харизму «истинную» и рутинизированную, не утверждая, впрочем, будто рутинизация харизмы способна привести к ее полному исчезновению как типа господства. Тем не менее к середине ХХ века в мысли и практике возобладала линия на желательность как можно более быстрого, лучше всего превентивного усмирения харизмы и ее политических проекций. Однако последовавшее вскоре появление целой плеяды могучих харизматиков породило новый веер интерпретаций понятия. Рональд Глассман рассматривает харизму как всецело «рукодельную», «сфабрикованную» (manufactured), и таковой же ее полагают авторы многочисленных пособий по «развитию» харизмы и «персонального магнетизма». В то же время с понятием харизмы работает Эдвард Шилз. Он переворачивает веберовское различение харизмы «подлинной», предпочитая называть ее «интенсивной» или «концентрированной», и рутинизированной, именуя ее «распределенной» (dispersed), «ослабленной» (attenuated). Исходной, более того, «нормальной» формой харизмы, по Шилзу, является именно вторая. Это оказывается так, поскольку в действительности производит харизму не собственными силами тот или иной харизматик, а центр общества, которое служит ареной его деятельности. Есть общества — есть центры. Есть центры — есть харизма. Есть харизма — есть харизматики. Концепт сохраняет работоспособность. И все же в первой четверти XXI века выдающихся политических харизматиков не наблюдается. Можно предположить, что этот дефицит связан с прогрессирующей утратой веры в само существование каких-либо политически референтных трансценденций, создающих, согласно Шилзу, условия для построения макросоциальных центров. Представимы ли такие условия, при которых харизма и харизматическое господство могут вновь возродиться? Логически — да. Такую роль может сыграть шок небывалой мощи и непредставимой a priori природы, который заставит людей вновь уверовать в присутствие в их жизненном мире (мирах) «serious things», то есть вещей, обладающих «трансцендентной значимостью», «мыслимых как фундаментальные, как определяющие человеческую участь в этом мире, в жизни и смерти» (Шилз). В отсутствие (или в ожидании) как имманентных, так и трансцендентных потрясений стоило бы заняться операционализацией известной, но не проработанной антитезы «темной» и «светлой» харизмы. В первую очередь исследуя их сравнительную живучесть и способность к регенерации. |
|
|
71–105
|
Одним из важных трендов, которые отмечают исследователи в революционных событиях последних десятилетий, является быстрый рост доли невооруженных революционных выступлений и, соответственно, снижение доли вооруженных революционных выступлений. Исследование этого тренда представляет большую значимость. Настоящая работа продолжает ранее проводимые исследования невооруженной революционной дестабилизации. В отличие от прошлых исследований, авторы значительно расширили учитываемый временной диапазон, рассмотрели вместе основные факторы начала невооруженных (~ «ненасильственных») революционных выступлений и значительно улучшили методологию, совместив эти факторы в рамках одной модели. В результате было установлено, что большинство переменных связано с вероятностью начала невооруженных революционных выступлений криволинейно, что объясняет слабую статистическую связь для некоторых переменных в работах предшественников. Нелинейную связь имеют: длительность существования режима, экономический рост, уровень демократичности, степень коррумпированности режима, урбанизация, ВВП на душу населения, «молодежный бугор», производство нефти, уровень дискриминации. Кроме того, были выявлены наиболее важные детерминанты начала невооруженных революционных выступлений и проранжированы в порядке их значимости. Проделанный анализ позволяет предполагать, что вероятность начала невооруженных революционных выступлений наиболее высока в экономически среднеразвитых государствах с молодыми политическими режимами, значительной численностью населения, очень низкими (как, впрочем, и очень высокими) темпами экономического роста, промежуточными политическими режимами (частичной демократией или в особенности частичной автократией), высоким уровнем коррумпированности режима (притом что предельно высокий уровень коррупции оказывает на вероятность начала невооруженной революции все-таки скорее ингибирующее воздействие), значительной финансовой помощью со стороны США, достаточно высоким уровнем охвата населения современным формальным образованием, очень длительным сроком пребывания первого лица у власти, достаточно высокой долей горожан в общей численности населения, наличием определенной культуры протеста, с низкими или отсутствующими нефтяными доходами. При этом подтверждается, что вероятность начала невооруженных революций заметно выросла после конца Холодной войны в связи с изменением мировой геополитической ситуации. |
|
|
106–131
|
Данная статья посвящена выяснению факторов распределения президентских грантов на экологические инициативы в 2017–2023 годах. Основное предположение заключается в проверке наличия политической логики в поддержке региональных экоинициатив. Если предыдущие исследования рассматривали экологические конфликты, как правило, со стороны экоактивистов, то в данной работе мы в большей степени фокусируемся на изучении стратегии властей. Для этого мы предлагаем использовать концепт региональной экологической политики (politics). Предполагая, что для властей ключевым моментом является попытка снизить экопротестную активность, мы исходим из того, что власти стремятся использовать не только «кнут», то есть силовые стратегии борьбы с протестами, но и «пряник» в форме стратегий кооптации экоактивистов. В данной модели распределение грантов на поддержку экологических инициатив рассматривается как реакция на характер экологических проблем и конфликтов. Мы проверяем три основных гипотезы о логике поддержки проектов: реакция на ухудшение экологической ситуации в регионе, реакция на частоту экопротестов и реакция на высокий уровень неравенства, способствующий протестным настроениям в принципе. Мы опираемся на несколько источников эмпирических данных: данные по распределению президентских грантов на экологические неправительственные организации; масштабная база данных по экопротестам, показатели Национального экологического рейтинга российских регионов. Применение моделей с фиксированными эффектами показало, что распределение президентских грантов следует как за экопротестами, так и за ухудшением экологической ситуации в регионах. Кроме того, на распределение грантов значимо влияет низкий уровень неравенства, который в России свойственен, как правило, бедным регионам. Дополнительно мы иллюстрируем наши аргументы кейсом Свердловской области, который указывает на «валовый», а не точечный характер поддержки экологических инициатив. |
|
|
132–156
|
В данной статье на материале стран юга Африки второй половины XX века апробируется модель становления коллегиально разделенной власти (КРВ) посредством складывания паритета внутриполитических сил в условиях общих для них внешних геополитических (военно-политических) угроз, полученная ранее по результатам анализа случаев революций в Западной Европе XIX века. Подход основан на «геополитической теории коллегиальной власти» американского социолога Р. Коллинза, которая описывает процессы становления новых политических систем со «сдержками и противовесами» посредством централизации военных союзов. Проводится качественный сравнительный анализ (QCA) случаев деколонизации Ботсваны, Намибии, ЮАР, Зимбабве, Лесото и Свазиленда по четырем зависимым переменным: наличие/отсутствие правительств с представителями различных партий, внутриэлитных репрессий, ответственности правительства перед парламентом и права главы государства назначать членов парламента. Деколонизация в данном случае трактуется как переход к «правлению черного большинства», при котором население страны имеет, по крайней мере, номинальную возможность посредством всеобщих выборов утверждать и смещать правительства. Результаты анализа показывают, что ранее полученная модель не описывает в полной мере исследуемые случаи, но, за исключением случая Ботсваны, складывание паритета внутриполитических сил при деколонизации все же коррелирует с высокими значениями уровня КРВ. Также выявляется, что теория КРВ должна учитывать опыт существования и осмысления политических систем с доминантной партией. Анализ новой выборки позволил как частично подтвердить полученные ранее результаты, так и выявить определенные ограничения «геополитической теории коллегиальной власти». |
Социологическая теория и методология исследований
|
|
157–188
|
Когнитивная социология обещает пополнить ряды тех наук о поведении, которые уже стали частью когнитивного поворота в гуманитарных дисциплинах (напр.: психологии, философии, лингвистики). Основная идея этого направления заключается в признании социальной природы процессов мышления, познания и памяти. Настоящая работа призвана добавить когнитивное измерение к классическому для социологии вопросу социального действия. В теории социального действия, вдохновленной тезисами, заимствованными из когнитивных наук, принято различать два типа практических установок: нерефлексивную и рефлексивную. Первая обозначает автоматическое телесное «знание-как», или привычные паттерны действия, в то время как вторая определяется как делиберативное «знание-что», или дискурсивные идеи и суждения. Целью данного исследования является экспликация перехода от одного к другому — от автоматизма к делиберации. Конвенциональное объяснение предполагает, что необходимым условием рефлексивности является некоторая проблематичность. И, напротив, рутинная реализация действия не требует дополнительного осмысления. Такого рода суждения распространены, но недостаточно инклюзивны: они не теоретизируют повседневное, привычное действие как возможный триггер делиберации. Представленная в работе концептуализация перехода к рефлексивности рассматривает и «проблематичность», и «рутину» как потенциальные локусы рефлексивности. Для этого здесь последовательно конструируется модель диалогичности когнитивных и аффективных оснований рефлексивности. Работа состоит из нескольких частей. Сначала из теории практик и классического прагматизма при помощи концепции интереса выводится когнитивное основание понятия рефлексивности. Затем разрабатывается его аффективное основание, которое отвечает за эмоциональную значимость предмета осмысления. Функционально различные диалогические сочетания когниции и аффекта собраны в четырехчастную типологию рефлексивности. Данная типология призвана указать на эпистемический потенциал когнитивной социологии для исследования социального действия. |
|
|
189–216
|
В статье исследуются условия влияния правового дискурса на формирование представлений о социальном порядке в контексте конфликтогенной современной правовой политики, провоцирующей «глобальный хаос» (З. Бауман). Специфика этого влияния определяется типами правового дискурса, а также лингвистическим и логическим аспектами правовой коммуникации. В первой части статьи даются дескриптивные определения понятий правового дискурса, социальных представлений и социального порядка, уточняются отношения между ними. В результате тезаурусного анализа систематизируются подходы к данным социальных явлений, в зависимости от типа правового дискурса (институциональный (юридический) и неинституциональный), выявляются основные направления его влияния на формирование представлений о социальном порядке. Во второй части статьи представлен лингвистический аспект влияния на представления о социальном порядке в контексте присущих ему языковых функций: смыслообразования, нормативной и конструктивной функции, формализации и функции «отменяемости» правовых понятий. В третьей части доказывается положение о том, что содержание правового дискурса определяется выбором логической стратегии, которая задает конкретные условия формирования представлений о социальном порядке. Так, модернистскому варианту соответствует классический правовой дискурс, подчиненный формальной логике. Неклассический и постструктуралистский дискурсы направлены на критику аристотелевской логики и предлагают варианты семантической логики: логику отношений (А. Кауфманн) и логику эквивалентностей и различий (Э. Лаклау, Ш. Муфф). В частности, теоретико-методологические возможности логики эквивалентностей и различий применяются при анализе примеров либерального правового дискурса 1990-х гг., а также демонстрируются последствия его влияния на формирование представлений о современном мировом порядке. |
|
|
217–241
|
Трансформационные процессы, происходящие в трудовой жизни людей, являются объектом пристального научного внимания социальных исследователей. Социологи профессий описывают некоторые из них в терминах профессионализации и депрофессионализации трудовых занятий. Как правило, концептуализация таких терминов начинается с определения того, что есть профессия, но в этом вопросе социальные исследователи не смогли достичь консенсуса. Между тем, несмотря на теоретико-методологическую многоликость социологии профессий, существуют точки пересечения разных подходов в этой отрасли социологического знания в определении ее основного понятия и его производных. А именно: социологи профессий выделяют эксклюзивные знания, идеал служения и рабочую автономию в качестве элементов профессионального комплекса и по этим трем признакам-измерениям оценивают разные роды занятий на предмет их профессионализации и депрофессионализации. Более того, они предполагают, что рабочая автономия профессионалов проистекает из двух других элементов профессионального комплекса. Приложение такой аналитической схемы профессионализма к эмпирическому миру профессий оказывается затруднительным в ситуации распространения формальных структур — рыночных и бюрократических. В настоящей статье идентифицируются проблемные точки ее соотнесения с современными реалиями профессиональной жизни людей и диагностируются области манифестации этих точек при социологическом исследовании трудовых занятий с позиции их профессионализации и депрофессионализации. При этом профессионализация и депрофессионализация трудовых занятий как аналитические категории характеризуются эмпирической нечувствительностью, поскольку они затушевывают вариативность трансформаций, происходящих с базой знаний, логикой действования в институциональной должности и объемом рабочей автономии разных специалистов в изменчивой социальной среде. |
Городская политика и городское (со-)управление
|
|
242–268
|
Усложнение общества неизменно влечет за собой и усложнение социальных конфликтов. Город не только представляет собой пространство их презентации, но и сам конструирует конфликты. Их часто принято рассматривать как линейные дуальные взаимодействия. В настоящей статье с опорой на теории Л. Тевено и Л. Болтански, Б. Латура, Н. Флигстина и Д. Макадама мы пытаемся найти теоретико-методологические и эмпирические основания идентификации и анализа такого феномена, как сложный городской конфликт. Эмпирический и теоретический анализы позволили выделить его признаки: множественность элементов, связанность с другими конфликтами, устойчивость протекания и структурная подвижность (способность к трансформации). Информационную базу исследования составили кейсы Геоинформационной базы данных конфликтов Новосибирской агломерации и материалы более 60 полуструктурированных интервью с участниками городских конфликтов. Объектом эмпирического анализа стала группа конфликтов с характеристиками, релевантными выделенным признакам. Отмечено, что городские конфликты становятся пространством взаимодействий все большего числа связанных между собой акторов, разворачиваются одновременно на разных полях стратегического действия и в разных логиках обоснования справедливости. Сложные конфликты содержат не менее трех из выделенных признаков, являются реакцией на появление значимого ресурса, проявляют себя в умении акторов создавать информационный резонанс, наращивать связи и находить новых союзников за счет конструирования новых смыслов и дополнительных повесток; в них вовлечены акторы, уже имеющие опыт неоднократного участия в городских конфликтах. |
Статьи и эссе
|
|
269–299
|
В работе исследуются культурные различия между российскими регионами по измерению индивидуализм — коллективизм (ИК), которое операционализируется с помощью вопросов из анкеты Всемирного исследования ценностей, отражающих мнения респондентов относительно репродуктивных свобод и гендерного равенства. На основе масштабного опроса, проведенного в 2019–2020 гг. и охватившего 60 субъектов федерации (N = 18 768), строится культурная карта России, отражающая межрегиональную вариацию по указанному измерению. Наиболее высокий уровень индивидуализма наблюдается в Ярославской области, Москве и Санкт-Петербурге; самыми коллективистскими оказались мусульманские республики Северного Кавказа. Превалирующие в конкретных регионах нормы предсказываются такими характеристиками, как средняя заработная плата, географическая широта столицы, доля этнических русских и — в меньшей степени — водообеспеченность на душу населения. Каждая из этих переменных положительно связана с распространенностью индивидуалистических ориентаций. Кроме того, относительное преобладание индивидуализма ассоциируется с более высоким уровнем инновационной активности в регионе, а коллективизма — с меньшим суммарным количеством избыточных смертей на 100 000 человек за 2020–2022 годы (период активной фазы пандемии COVID-19). При этом ИК не коррелирует с показателями волонтерской активности и эффективности государственного управления в регионах. Также приводятся значения индекса ИК для обследованных субъектов, которые могут использоваться другими исследователями для изучения взаимосвязей культурной специфики и объективных показателей регионального социально-экономического развития в Российской Федерации. |
|
|
300–331
|
Немногие работы в российской социологической науке посвящены неблагополучным районам. В данной статье мы рассматриваем такие исследовательские вопросы, как концептуализация неблагополучных районов при отказе от использования понятия «гетто» и культурные модели, определяющие социализацию индивидов в районах. Авторы предлагают использовать понятие автономного сообщества как замену несостоятельного концепта гетто. На материале полевых исследований нелегального рынка биоресурсов в Астраханской области с использованием социобиографического метода авторы показывают, каким образом в разных поколениях протекает социализация в домохозяйствах различного типа. Авторы считают, что разные типы домохозяйств в пойме и дельте реки Волги, образовавшиеся после 1991 года, порождают разные культурные модели социализации. Авторы обнаружили, что в пойме Волги индивиды, образующие домохозяйства, в нелегальную экономическую деятельность которых вовлечены только муж и жена, руководствуются локальными коллективными культурными моделями, приводящими к распространению гедонистического образа жизни в среде взрослых при исключении подростков и молодых взрослых из производственного процесса домохозяйства. Такая динамика приводит к постепенному разрушению коллективных социальных институтов, межпоколенческому разрыву в «альтернативных» и мейнстримных культурных моделях, отходу подростков и взрослых от занятия браконьерством, неудачной социализации взрослых и кризису данного типа домохозяйства как основы нелегального рынка биоресурсов. Напротив, в дельте Волги преобладает домохозяйство-семейная фирма. Здесь «альтернативные» культурные модели социализации определяются включением подростков и молодых взрослых в нелегальный производственный процесс, а также распространением оппозиции «свой-чужой» для поддержания стабильного социального порядка. Это способствует сохранению стабильной социальной структуры поселений в краткосрочном периоде. |
|
|
332–356
|
В статье исследуются «цифровые следы» двух важнейших этапов процесса структурной интеграции трансграничных мигрантов в России — поиска работы и жилья. Наша цель — проанализировав сообщения на релевантные темы в «мигрантских» группах во «ВКонтакте», описать, с какими трудностями сталкиваются их авторы и как они используют социальные медиа для их преодоления. Для анализа текстового массива мы применили комбинацию автоматических классификаторов (линейного и нейросетевого) и контент-анализа. Используя написанный на языке Python парсер, мы извлекли из «мигрантских» групп 129 261 текстов, на которых обучили нейросеть BERT (F1-мера 0,94) выделять сообщения интересующей нас тематики. Для уточнения корректности классификации и получения предварительных выводов методом контент-анализа была проанализирована случайная выборка из отобранного нейросетью массива. Мы увидели, что рассмотренные цифровые площадки являются пространствами концентрации «силы слабых связей», выстраиваемых приезжими для накопления информации и социального капитала, снижающих интеграционные издержки и риски при поиске жилья и работы в ситуации острого дефицита ресурсов. Их основой становится религиозная и земляческая солидарность. Также цифровые медиа становятся местом контакта мигрантов и принимающего сообщества: с их помощью приезжих — например, беженцев из Украины, ДНР и ЛНР — активно вовлекают в неформальную семейную экономику и экономику ухода. Результаты не противоречат тем, что получены более традиционными методами, что говорит о возможности применения подхода для изучения больших по объему массивов, созданных менее исследованными сообществами. |
Обзоры
|
|
357–389
|
«Эффект друзей и соседей» — один из классических контекстуальных эффектов в электоральной географии. Обычно он проявляется в виде повышения поддержки кандидата, баллотирующегося на выборах, в окрестностях его места проживания, родного района или других мест, с которыми он как-либо связан. Иногда этот феномен называют «эффектом кандидата» или эффектом «домашнего преимущества». В данной статье представлен обзор исследований данного эффекта, характеризуются его основные черты и особенности, а также формулируются ключевые проблемы, стоящие перед исследователями в данной области. Несмотря на то что с момента «открытия» данного явления прошло уже 75 лет, география исследований, посвященных «эффекту друзей и соседей», до сих пор ограничивается в основном США, Австралией, Новой Зеландией и несколькими странами Европы, тогда как работы по другим регионам единичны. В России ему тоже практически не уделялось внимания, а первая статья, посвященная непосредственно данному эффекту, появилась лишь в 2022 году. При этом в последние 15 лет в англоязычной литературе наблюдается взрывной рост интереса к «эффекту друзей и соседей». Именно в этот период появилась большая часть работ по странам Восточной Европы, а также несколько исследований по африканским и восточноазиатским странам. Другая актуальная проблема — переход от этапа накопления информации и первичных результатов по отдельным контекстам к синтетическому обобщению знаний об исследуемом феномене на основе сравнительных исследований. Возможно, именно подобное обобщение поможет ответить на ряд нерешенных пока вопросов, связанных с «эффектом друзей и соседей». |
|
|
390–417
|
В статье исследуется идеология вокизма и анализируется вклад американского философа Питера Богоссяна в борьбу с ней. Подробно рассматривается концепция «уличной эпистемологии» Богоссяна — инструмента для ведения бесконфликтного диалога, который призван стимулировать человека задуматься о надежности методов, используемых им для формирования убеждений, особенно религиозных. Богоссян выступает за использование сократического метода для разубеждения верующих, рекомендуя сконцентрироваться на критике веры как способе познания (он называет это «ненадежной эпистемологией») вместо освещения внешних аспектов религии. Он характеризует веру и вокизм как «вирусы разума» и предлагает общие методы борьбы с ними. Статья выделяет сходства вокизма и религиозного фундаментализма, выявленные Богоссяном и другими учеными, а также подробно описывает конфликт некоторых новых атеистов, включая Богоссяна, с вокистским движением. В статье показано, что вокизм обладает чертами религии, включая неопровержимые догмы (повсеместный расизм), аналог первородного греха (белизна), моральное высокомерие приверженцев (несогласие считается пороком), магическое мышление (гендерная идентичность), пуританизм, обряды, мучеников. Обсуждается концепция «гипотезы замещения» и роль нового атеизма в формировании вокистского атеизма, получившего название «Атеизм Плюс». Делается вывод, что для противостояния внерелигиозным иррациональным идеологиям, таким как вокизм, можно применять практики секуляризма. |
|
|
418–443
|
В статье предпринимается попытка комплексной реконструкции взгляда Герда-Клауса Кальтенбруннера — одного из наиболее влиятельных консервативных публицистов и теоретиков в ФРГ — на политическое значение христианства для проекта «реконструкции консерватизма», предпринятого им в 1970-е годы и оказывающего определяющее влияние на немецкие правоконсервативные круги и по сей день. Автор показывает амбивалентность отношения Кальтенбруннера к христианству как к опоре консервативной политической теории после Второй мировой войны — события первой половины ХХ века, социальные и политические изменения общества, новые веяния в философии и теологии вынуждают католика-консерватора искать более рациональные и эмпирически представленные способы обоснования консервативной политической позиции. Одновременно с этим Кальтенбруннер выступает против масштабной политизации и инструментализации христианства слева. Роль, отводимая Кальтнебруннером антропологической аргументации, сближает его рассуждения с классической консервативной мыслью XIX столетия, однако невозможность апелляции к трансцендентному обоснованию консервативной позиции в современном мире приводит его к секулярному проекту философской антропологии, доводы которой Кальтенбруннер активно заимствует в полемических целях. Такая понятийная рамка приобрела впоследствии ключевое значение для многих немецких правоконсервативных интеллектуалов, тогда как религиозная аргументация окончательно потеряла свою силу. Данное исследование является частью цикла публикаций об истории и философско-политических основах послевоенного консерватизма в ФРГ и немецких «новых правых». |
Рецензии
|
|
444–450
|
Рецензия на книгу: Коллманн Н. Ш. (2023). Россия и ее империя. 1450–1801 / перевод с английского В. Петрова. СПб.: Academic Studies / Библиороссика. — 783 с. ISBN: 978-5-907532-45-8 |
|
|
451–457
|
Рецензия на книгу: Игнатьева О. А. (2025). Реконструкция концепции власти Макса Вебера. М.: Издательство Аспект Пресс. — 158 С. ISBN: 978-5-7567-1335-0 |
In memoriam
|
.jpg)

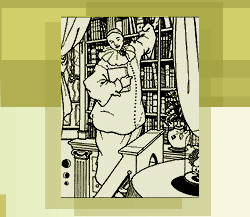

.png)

.png)


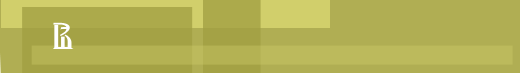
 ©
© 