.jpg)
|
Политическая социология
|
|
9–48
|
В статье анализируется зависимость между типом политического режима и уровнем террористической активности, с особым акцентом на так называемые фракциональные (факциональные/factional) демократии. Ключевым отличием данного политического режима от других является наличие в нем поляризации между противоборствующими фракциями (factions), которая трансформирует конвенциональный институционализированный политический процесс в неконвенциональную политику раскола. Показано, что фракциональные демократии подвергаются большему количеству террористических атак, чем другие политические режимы. Предлагается авторский ответ на давно обсуждаемый исследователями вопрос о причинах выявленной во многих исследованиях положительной корреляции между демократией и терроризмом. Обращается внимание на то, что положительная связь между демократическим режимом и уровнем террористической активности может быть получена из-за включения фракциональных демократий в выборку демократических государств. Если фракциональные демократии исключить из выборки, связь между уровнем террористической активности и демократическим режимом оказывается негативной. Выводы, сделанные на основе полученных результатов о характере связи между демократиями, в частности фракциональными демократиями, и уровнем террористической активности, представляются значимыми при проведении тестов на выделенных подвыборках. Проведенный анализ позволяет утверждать, что фракциональная демократия является достаточно мощным фактором высокого уровня террористической активности, в то время как нефракциональная демократия оказывается скорее статистически значимым предиктором относительно более низкой интенсивности террористических атак. |
|
|
49–76
|
В статье рассматривается конструирование социальной проблемы ВИЧ/СПИДа властями и ВИЧ-активистами в России. Работа основывается на изучении риторики российских властей, включенном наблюдении и интервью с ВИЧ-активистами. Конструкции ВИЧ/СПИДа, создаваемые властями и ВИЧ-активистами, значительно отличаются. Российские президент и премьер-министр конструируют ВИЧ/СПИД не как эпидемию в стране, а как «глобальную проблему», представляя Россию участником международных усилий по борьбе со СПИДом. Власти проблематизируют распространение вируса посредством риторики опасности, используя вместе с тем депроблематизирующую стратегию натурализации («это проблема, с которой сталкиваются все страны»). ВИЧ-активисты со своей стороны проблематизируют нарушения прав людей с ВИЧ в государственных учреждениях здравоохранения, низкое качество антиретровирусной терапии, практику позднего назначения терапии, отсутствие профилактики распространения ВИЧ и сексуального образования в школах, репрессивную наркополитику. В отличие от властной конструкции, в конструкции, создаваемой ВИЧ-активистами, отсутствует риторика моральных ценностей. Основным способом проблематизации, используемым ими, является антидискриминационная риторика наделения правом. Вместе с тем ВИЧ как угроза и основание для страха депроблематизируется активистами посредством стратегии опровергающих историй: ВИЧ-активисты рассказывают о себе и непосредственно взаимодействуют с людьми для устранения их страха перед вирусом. |
|
|
77–115
|
Автор предлагает проанализировать категории политической культуры Японии периода Нара (VII–VIII века) — согласие ва 和 и должное ги 義, предполагая, что в их основании кроется экзистенциальный принцип доверия, выраженный конфуцианской категорией доверительности син 信. Начиная с краткого обзора политической культуры исследуемого периода, автор артикулирует значение всех исследуемых категорий в топике японского политического мышления. Отдельное внимание уделено роли языка и мифа в японской культуре, т. к. автор исходит из убеждения, что политическая культура является своего рода надстройкой над основанием, коим является язык, будучи логосом культуры в целом, благодаря чему становится возможным выявить онтологически укорененные в языке экзистенциальные смыслы категорий политической мысли. Приходя к выводу, что в японской традиции миф в наибольшей степени отражает закономерности политического мышления, в заключительной части работы автор анализирует употребление иероглифов ва 和 и ги 義 в текстах японских мифолетописных хроник «Кодзики», «Нихонги» и «Нихон сёки», поочередно проясняя оттенки их значений и обнаруживая в них доверительную основу. |
|
|
116–142
|
В начале ХХ века Китай, столкнувшись с необходимостью поиска новых путей развития, как и другие страны, делает попытки осмысления этого опыта средствами социальных наук. Наша работа посвящена обзору и анализу китайской социологической мысли рубежа XIX–XX веков, сфокусированной на проблемах управления. Предметом статьи стало зарождение социолого-управленческой традиции в китайском обществе. Материалом для исследования послужили работы мыслителей, публицистов, политических деятелей того времени, поставивших перед собой задачу применения западных наук для развития страны. Основной проблемой, рассматриваемой в статье, стала неоднородность взглядов того времени на проблему соотношения западного и собственного китайского в подходах к изучению управленческих процессов в Китае. Анализ материалов того времени демонстрирует три различные тенденции в формировании социолого-управленческой традиции, отражающие общие процессы проникновения западных наук в Китай: выявление предпосылок для изучения проблем управления в традиционных китайских подходах, демонстрация преобладания западных наук над китайскими традиционными науками и попытки синтеза того и другого. Вывод статьи состоит в том, что к моменту падения Цинской династии в 1911 году зарождающиеся социолого-управленческие традиции в Китае представляли собой неоднородный сплав западных и традиционных китайских концепций, находящийся в тесной связи с другими науками — политологией, социологией, философией и пр. Традиционные идеи, в значительной степени отличавшиеся умозрительностью и идеологизированностью, в этот период несут функцию идеологического «щита» для сохранения целостности китайской нации в контексте растущего влияния западных держав на китайское общество. |
Статьи и эссе
|
|
143–171
|
Статья посвящена феномену мученичества в западных национализмах XVIII–XX веков, который рассматривается на трех примерах: это культы Марата, Лепелетье, Шалье и других мучеников во Франции в эпоху революции 1789 года, американский культ Авраама Линкольна и других «президентов-мучеников», а также идеология мученичества в ирландском национализме, начиная с XVII века и заканчивая Пасхальным восстанием 1916 года. В классических исследованиях, посвященных национализму, это явление не рассматривается; в других работах подробно анализируются отдельные кейсы, но отсутствует общая теория. В связи с этим ос-новная цель статьи — определить, какую роль мученичество играет в национализмах, и как оно связано с «традиционными» религиями. Для решения этих двух задач предлагается структурная, или «композиционная», модель, предполагающая, что дискурс мученичества складывается из трех мотивов: это учреждение, милитантность и мобилизация. Эти три компонента образуют цельный «движок», позволяющий националистическому движению или нации-государству бороться за создание новой реальности и сохранять достигнутое. Со-отношение этих трех мотивов может различаться в каждом отдельном случае, причем если один из мотивов гипертрофируется, остальные два «достраиваются» до минимального уровня. Исходя из того, что мученичество в национализмах постоянно отсылает к религиозным идеям, образам и ритуалам, автор делает вывод, что мученичество — это цельный феномен, в котором отсутствует четкая граница между «секулярным» и «рели-гиозным» в плане как отдельных случаев, так и составляющих любого из них. |
|
|
172–194
|
В статье предлагается к рассмотрению институциональная сторона проекта глобальной социологии, представ-ленного Майклом Буравым. Основные критические замечания к данному подходу в настоящее время игнори-руют роль институций и чаще концентрируются на идеологической стороне вопроса. Отслеживается исполь-зование отличительных институциональных особенностей, а также разного рода ресурсов Международной социологической ассоциации (МСА) для продвижения идеи глобальной социологии. С помощью истори-ко-социологического метода демонстрируется взаимосвязь между традиционными для МСА атрибутами (со-циологические конгрессы, институт президентства и президентской речи) и проектом глобальной социологии в подходе британского исследователя. Проанализированы основные публикации М. Буравого, определены клю-чевые программные пункты развития заявленной идеи и выделены характеристики, свойственные проекту глобальной социологии в его подходе. Особое внимание уделяется институту президентской речи в рамках МСА и его использованию в контексте интерпретации М. Буравого. На основании данных характеристик и изученных источников постулируется проблема централизации проекта на институциональной связи с раз-личными ресурсами, предоставляемыми МСА. |
Политическая философия
|
|
195–223
|
Статья представляет собой первый опыт систематического анализа политической философии Владимира Бибихина. В то время как предыдущие исследования, посвященные Бибихину, либо ограничивались размышлениями о «событии мысли Бибихина» в целом, либо рассматривали отдельные концепты, предложенные отечественным философом, данная работа претендует на последовательную реконструкцию одной из наиболее значимых областей его творчества. Для этого выявляются разработанные Бибихиным в лекционном курсе «Пора (время-бытие)» феноменологические, онтологические и экзистенциальные основания философии истории и политической философии, восходящие к ключевым идеям «Бытия и времени» М. Хайдеггера. Подробно анализируется восемнадцатая лекция курса «Пора», в которой Бибихин вводит понятия ранней и поздней дисциплины, а также последние лекции курса, иллюстрирующие два вида дисциплины примерами правления Софьи Алексеевны и реформ Петра I. Концепты ранней и поздней дисциплины рассматриваются в качестве онтологических структур, лежащих в основе таких политических форм, как демократия и самодержавие. Привлекаются другие тексты Бибихина, посвященные России, — «Введение в философию права», «Власть России» и «Наше место в мире»; аргументируется, что эти тексты также говорят о политических и онтологических характеристиках введенного в «Поре» концепта поздней дисциплины. Книга «Новый ренессанс» рассматривается как иллюстрация ранней дисциплины, которую Бибихин считает характерной чертой Запада; обсуждаются представленные в книге онтология истории и авторская трактовка итальянского Ренессанса. В завершении статьи предлагается критический анализ результатов политической философии Бибихина в ее опасной близости к идеологии и намечаются возможные перспективы для интеграции некоторых подходов Бибихина в современный разговор о политическом. |
|
|
224–244
|
With the increasing role of technological agents in contemporary society, questions surrounding the future of so-cio-economic organization are intensely debated. A variety of predictions have been made, ranging from conservative views that emphasize the gradual integration of techno-actors into human social collectives to radical outlooks that assume the inevitability of a dramatic historic break. This study employs the method of simulation, exploring the on-going path towards automation with the help of classical Marxism. It seeks to understand whether robots and artificial intelligence (AI) might become new value producers and a revolutionary social class. As demonstrated, the continuity of capitalist relationships may facilitate the formation of new social groups and recast class-based political agendas. |
Ханна Арендт: новое начало
|
|
245–259
|
We can find the opposition between the judging spectator and the judging actor in Arendt’s unfinished theory of judgment. In analyzing this opposition, some interpreters have come to the conclusion that Arendt finally defines political judgment as the contemplative ability of the silent spectator who is not needed in public. This article argues against this interpretation of Arendt’s approach to the judging spectator, and deals with the fact that Arendt gives the judging spectator the functions of the political narrator. The judging spectator cannot be interpreted only as a contemplative subject in her theory. Certainly, in Arendt’s later texts, judgment is seen as an ability to evaluate the political content not so much of one’s own actions, but the actions of the participants of common life. However, the spectator as the author of judgment cannot be silent since they are included in the political world. This article reveals Arendt’s understanding of the judging spectator in connection to her practical approach to judgment. In the results of the research, it can be said that the judging spectator can be interpreted as a participant of the common political world because speech is needed. While analyzing Arendt’s concept of speech as a part of her action theory, it is possible to state that the judging spectator is the narrator. This person is not the one who contemplates, but is the one who publicly speaks about the actions, and thus forms the political space. |
Русская Атлантида
|
|
260–285
|
Целью статьи является детальная реконструкция рецепции «Государственных тайн Венеции», главного историософского сочинения В. И. Ламанского. Приводятся отзывы на «Государственные тайны» русских и зарубежных ученых. На основе рецензии А. С. Будиловича дается подробное изложение содержания работы Ламанского. Показано, что, хотя формально сборник документов Ламанского нацелен на восстановление истории политического убийства в Венецианской республике в XV–XVIII веках, смысловой центр тяжести сборника и исторических очерков приходится на новое освещение Восточного вопроса, который сводится к проблеме отношений России и Запада. Фактография, приводимая в сборнике, ценна лишь в качестве иллюстративного материала для доказательства мысли о глубинной противоречивости отношений романо-германской Европы и греко-славянского мира во главе с Россией. В данном аспекте авторы продемонстрировали преемственность историософского подхода ранних славянофилов, прежде всего, А. С. Хомякова, и исторической методологии В. И. Ламанского: показано, что как для ранних, так и для поздних славянофилов основой исторических исследований служили проблемы, актуальные для современной культурной ситуации. В статье доказывается, что «Государственные тайны Венеции» Ламанского являются скорее политическим сочинением, призванным морально обличить европейскую политику. В этом отношении авторы рассматривают «Государственные тайны» в качестве сочинения, наиболее полно выражающего понимание Европы в позднем славянофильстве, то есть в качестве славянофильского образа Европы. Показано отношение Ламанского к панславизму. Указывается, что Ламанский негативно относился к австрославизму, который он рассматривал в качестве попытки разъединения славян и обращения их против России, единственного подлинного защитника славянских интересов, по его мысли. |
Studia Sovietica
|
|
286–308
|
В статье рассматривается история концепта вульгарного социологизма и роль Михаила Александровича Лифшица в ней. В 1920-е годы в отечественных науках об обществе и человеке начал формироваться новый подход, который предполагает рассматривать все идеи с точки зрения классовой психоидеологии. Он проявляется в истории философского и научного знания, но в самой значительной мере в литературоведении (В. М. Фриче, В. Ф. Переверзев). Любое художественное произведение, как следствие, превращается в зашифрованное послание, за которым скрывается интерес определенного класса или группы. Критик должен разгадать этот шифр, определить их социологический эквивалент. В дискуссиях против вульгарной социологии Лифшиц и его единомышленники настаивали на ограниченности вульгарно-социологического подхода и квалифицировали его как буржуазное извращение марксизма. Принцип критики вульгарной социологии они видели в известном высказывании К. Маркса об эстетической ценности древнегреческого эпоса в наши дни. Задача критика не сводится к установлению социальной генетики художественного произведения, так как ему необходимо также объяснить, почему это произведение вызывает эстетическое наслаждение и в другие исторические эпохи. В статье показано, что более поздние попытки свести весь спектр современной западной философии и эстетики к парадигме вульгарной социологии 1920-х годов являются необоснованным преувеличением. В то же время в дискуссиях 1930-х годов был поставлен вопрос о необходимости разграничения вульгарно-социологического подхода и социологического метода вообще. Этот вопрос остается для социологии актуальным и в наши дни. |
Социологическое образование
|
|
309–327
|
В статье автор предлагает описание религиозной реальности, анализирует ее соотношение с повседневной, теоретической и мифологической реальностями, выявляет их пересечения и специфику, отталкиваясь от кон-цепции множественности реальностей, сформулированной в рамках социальной феноменологии Альфреда Шюца. Согласно мысли Шюца, реальность понимается как то, что имеет для человека значение, а также обла-дает непротиворечивостью и несомненностью для тех, кто находится внутри нее. Реальности структурно по-добны друг другу, потому что они подобны наиболее очевидной для всех людей реальности — миру повсе-дневной жизни. Религиозная реальность имеет один из основных признаков подлинной реальности — внут-реннюю непротиворечивость. Религиозной реальности присуще свое эпохé — специальные аскетические практики, — сходное с эпохе теоретической сферы в том, что оно также не служит практическим задачам и предполагает свободу от бытовых сиюминутных вопросов. Аналогично тому, как теоретическая сфера суще-ствует независимо от жизни ученого в физическом мире, но нуждается в ней для того, чтобы результаты были переданы другим людям, так и религиозная реальность в устремлении к трансцендентному зависит от риту-альных действий и материальных предметов. Индивидуальные и особенно коллективные религиозные практи-ки имеют физическое исполнение и неразрывно связаны с телесным ритуалом. Несмотря на то что феномено-логическая концепция множественности реальностей Шюца уже неоднократно служила отправной точкой для развития различных социальных теорий, ее эвристический потенциал не исчерпан и позволяет проводить ана-лиз и разрабатывать, например, актуальные вопросы национальной идентичности и ее связей с религиозной традицией в современную эпоху, когда религиозная реальность теряет убедительность и имеет много конку-рентов, одним из которых является современный миф нации. Представления о нации, связанные с интерсубъ-ективной и социально подтверждаемой в качестве самоочевидной реальностью повседневной жизни, вызывают эмоциональные переживания и наполняют жизнь, вытесняя религиозную реальность или заставляя последнюю вступать в сложные взаимодействия с национальным нарративом. |
Размышления над книгой
|
|
328–344
|
Предмет настоящей статьи — критический анализ «концепции будущего», предложенной британским социальным теоретиком Джоном Урри (1946–2016). Автор вкратце рассматривает творческое наследие социолога и его вклад в создание новой социальной теории, отмечает, что переведенные на русский язык книги Урри репрезентируют его творчество не в полной мере, но отражают поздний период его исследовательской работы. «Как выглядит будущее?» — последняя книга социолога, вышла в год его смерти и поэтому мы можем рассматривать ее в качестве своеобразного творческого завещания. В этом завещании, однако, отражены многие аспекты трудов последних шестнадцати лет жизни Урри. Как замечает сам Урри, своей книгой он бросает вызов социальным наукам, поскольку последние до сих пор не занимались будущим, отдав его на откуп футурологии. В статье дается ответ на вопрос, можем ли мы в самом деле считать эту книгу таким вызовом. Автор утверждает, что для концепции Урри характерна некоторая теоретическая слабость. Для анализа будущего социолог призывает на помощь теорию сложных развивающихся систем, но выводы, к которым он приходит, не имеют эвристической ценности. Вместе с тем книга Урри ценна не теорией, но самой попыткой рассуждать о будущем с позиции социальной философии, а также своей ориентацией на практику. С одной стороны, социолог, рассказывая об утопиях и антиутопиях, использует богатый эмпирический материал — художественную литературу, кинематограф, публицистику, доклады различных организаций и т. д. С другой стороны, обсуждая такие проблемы, как 3D-печать, городское пространство без автомобиля, климатические изменения, антиутопии и др., Урри пользуется методом сценариев, предлагая четыре варианта развития событий для каждого рассматриваемого им феномена. Сами по себе эти сценарии уже позволяют представить то, как могло бы выглядеть будущее. Заключительная глава книги посвящена «низкоуглеродному гражданскому обществу» и концептуализации «естественного капитализма», ответственного перед природой. Автор статьи делает особый акцент на этом, считая, что данная концепция должна быть дополнена иными представлениями о новейшем — цифровом — капитализме. Наконец, в статье рассматривается вопрос соотношения социальной теории Урри с теорией постмодерна. |
Рецензии
|
|
345–358
|
Рецензия: Альберт Байбурин. Советский паспорт: история — структура — практики (СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2017). |
|
|
359–363
|
Book Review: Olga Sedakova, Vescshestvo chelovechnosti [A Matter of Humanity] (Moscow: New Literary Observer, 2019) (in Russian). |
|
.jpg)

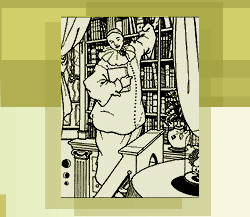

.png)

.png)


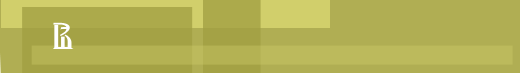
 ©
© 