.jpg)
|
Статьи и эссе
|
|
9–38
|
Кто, что, когда и как в современной России говорит о взаимных импликациях сакрального и политического? Автор показывает, что связных, хорошо артикулированных нарративов не производит почти никто, за вычетом некоторых представителей высшей государственной власти, антиклерикальной интеллигенции (не имеющей ни политического представительства, ни политического влияния) и исламской общины (сосредоточенной преимущественно на своих внутренних разногласиях). В статье подробно исследуется природа «властного» нарратива и демонстрируется, что она довольно близка к феномену «политической религии» в понимании Эмилио Джентиле. Еще один фокус внимания — причины уклонения большинства функционеров Русской православной церкви от дискуссии о должных и недолжных сопряжениях сакрального и политического. Показано, что причины «молчания», вероятнее всего, состоят в неизбежной, в случае его нарушения, постановке под вопрос легитимности современной формы российского государства. Наконец, описаны некоторые сценарии разрушения хрупкого равновесия, пока еще существующего на границе российского сакрального и российского политического. |
|
|
39–61
|
Статья посвящена распространенной идее последних лет — тезису об «усилении» российского государства, под которым подразумевается улучшение его состоятельности, рост стабильности, порядка и силы на отрезке после 2000 г. Данные взгляды анализируются с позиций научных представлений о государственном потенциале, его упорядоченности и устойчивости; рассматривая отечественный кейс и определяя многочисленные обстоятельства, препятствующие солидаризации с политическими декларациями, автор делает вывод об имитационном характере достигнутой «политической стабильности» и якобы состоявшегося в последние десятилетия «усиления». По мнению автора, динамика экономического развития, внутренние структурные противоречия и серьезные дискурсивные проблемы обусловливают расширение, но не усиление государственной системы, а также препятствуют формированию эффективной и результативной системы принятия государственных и политических решений. Автором рассматриваются различные варианты одновременного наличия в государственном устройстве и сильных, и слабых сторон, а также ситуации, в которых затруднительно сделать однозначный вывод о государственной состоятельности и том, чем является государство — грамотным управленческим центром, разрозненной совокупностью соперничающих институтов или монополизирующим ресурсы хищником. Применительно к российским реалиям исследуются гипотезы о «хищническом» и «фрагментированном» характере государственности, опирающиеся на работы Д. Норта, П. Эванса, М. Манна и Э. Дженн, а также анализируются основные проблемы, с которыми сталкивается продолжение прежней линии политического развития и публичной репрезентации государственной системы: ухудшение внешнеполитической ситуации, серьезное сжатие доступных режиму ресурсов и дивергенция внутри политической элиты. |
Политическая философия
|
|
62–86
|
Мартин Хайдеггер представляет собой редкий тип философа XX века, вся мысль которого строится как отрицание научного стиля размышлений и академического письма. Принципиальное значение эзотерического жеста хайдеггеровской философии заключается в том, что он не только служит ключом к пониманию всей архитектоники Полного собрания сочинений, но и позволяет заново поставить вопрос о статусе истины в ситуации современного кризиса университета. Статья представляет собой герменевтическое чтение первой записи «Черных тетрадей» Хайдеггера («Размышления II–VI», октябрь 1931 года), в ходе которого реконструируется «эзотерическая инициатива», соотносимая с критикой чтения и письма у Ф. Ницше и притчей о пещере Платона. Для интерпретации привлекаются параллельные места из курса лекций «О существе истины» 1931/1932 и 1933/1934 годов, а также корреспонденций Хайдеггера с Элизабет Блохманн и братом Фрицем Хайдеггером, охватывающие период 1930–1940-х годов. Анализируется устройство самого сообщения Хайдеггера и выделяются фундаментальные константы опыта жизни и мысли, делающие возможным не только знание истины бытия, но и пребывание в ней: одиночество (Einsamkeit), живая корреляция мысли и бытия, которая выражается в интенсивности и сердечности переживания (Innigkeit) и настойчивости пребывания в бытии (Inständigkeit im Seyn), а также молчание (Schweigen) и собранность (Sammlung). В заключение представлены три пары противоположностей, на которых основывается хайдеггеровская трактовка истины: 1) истина как правильность (adaequatio intellectus ad rem) vs. истина-алетейя (Unverborgenheit), 2) многие vs. одинокие (сообщество одиночек) как «адресат» истины, 3) публичность vs. Innigkeit как «пространство» пребывания истины. |
Ретроспектива
|
|
87–114
|
Данная статья посвящена анализу теории действия Элизабет Энском. В наиболее полной форме эта теория была представлена в книге «Намерение» (1957), ставшей философской классикой XX века. Именно «Намерение» сформировало круг проблем и вопросов, которые во многом определили дальнейшее развитие аналитической философии действия. Однако понимание чрезвычайно сложного текста «Намерения» требует комплексного знания биографического контекста написания книги, специфики методологии Энском, концепций, оказавших существенное влияние на становление философии Энском. Цель данной статьи — реконструировать теорию намеренного действия, как она представлена в книге «Намерение» с учетом данного контекста. В первой части статьи представлены краткие биографические сведения о жизни Энском, обрисован социальный и философский контекст, в котором была написана книга «Намерение», указано место теории действия в структуре философии Энском, проанализированы основные характеристики ее философского метода. Во-второй части эксплицируется базовая структура книги «Намерение», формулируется основная цель исследования, реконструируются центральные ходы рассуждения и аргументы Энском, выделяются тезисы и вопросы, оказавшие существенное влияние на становление и развитие аналитической философии действия. В заключении рассматривается значение теории действия Энском в контексте развития аналитической философии действия конца XX — начала XXI века. Произведенная реконструкция демонстрирует, что теория Энском позволяет пройти между крайностями различных версий картезианского дуализма, с одной стороны, и полным отрицанием значимости ментального в теории действия — с другой. |
Социологическая классика
|
|
115–121
|
Предисловие научного редактора русского перевода классической работы Эмиля Дюркгейма «Элементарные формы религиозной жизни» предваряет публикацию в «Социологическом обозрении» заключения к этой книге. Поводом для этой публикации стало предстоящее издание полного русского перевода этой работы в издательстве «Элементарные формы», запланированное на осень 2018 года. В отличие от остальных больших работ Дюркгейма, давно опубликованных на русском, до последнего времени с языка оригинала были переведены только введение и первая глава этого классического труда, вышедшего в свет более ста лет назад. При этом в современном социологическом ландшафте «Элементарные формы», безусловно, наиболее значимая работа Дюркгейма, чье влияние на магистральные направления и школы чрезвычайно высоко. Автор предисловия предполагает, что в этом недоразумении есть своя странная логика. Эта книга — не только великий ресурс для социологии, но и великая загадка. Со времени выхода в свет ее восприятие радикально менялось, и то, как ее читают сегодня, совсем не похоже на то, как ее воспринимали век или полвека назад. В своей статье автор обсуждает меняющееся влияние «Элементарных форм» на современную социологическую мысль, кратко останавливается на вопросе, в чем заключается и с чем связана непростая история восприятия «Элементарных форм» в социологии, и комментирует некоторые типы трудностей перевода этой книги. В качестве иллюстрации он показывает, что введенное Дюркгеймом не вполне конвенциональное и потому трудное для перевода понятие «пиакулярного обряда» связано с теоретической логикой его аргумента и попыткой объяснить свойство амбивалентности сакрального. |
|
|
122–154
|
В 2018 году в издательстве «Элементарные формы» выходит русский перевод классической книги «Элементарные формы религиозной жизни», написанной Эмилем Дюркгеймом в 1912 году. В Заключении Дюркгейм возвращается к вопросам о теории познания, которые он ставит в начале книги, и обобщает выводы, сделанные в результате анализа этнографических описаний религиозных верований племен Австралии. Он вновь доказывает, что его подход — изучение тотемизма — дает основу для выводов, касающихся более сложных обществ. Согласно его анализу, религиозная жизнь служит выражением коллективной жизни как таковой и реализуется через коллективные действия. Он объясняет происхождение индивидуального культа и универсалистского характера религий, которые на первый взгляд противоречат его тезису о социальной природе религии. Затем Дюркгейм обращается к современности и доказывает внеисторический характер религиозной жизни — постоянную потребность любого общества в поддержании коллективных чувств и представлений. Дюркгейм также рассуждает об отношениях науки и религии и исследует источник социального характера категорий мышления. В обсуждении этих проблем Дюркгейм выходит за рамки социологической теории религии и в очередной раз указывает на фундаментальность своего исследования. Заключение предваряется вступительной заметкой научного редактора перевода Дмитрия Куракина, в которой обозначается социально-теоретическая рамка, необходимая для понимания современной значимости этой работы, а также дается обзор основных переводческих проблем и их решений, связанных с книгой. |
Социология спорта
|
|
155–172
|
Статья известного немецкого исследователя советского спорта посвящена проблеме структурной взаимосвязи таких современных телесных практик, как спорт, с новым социальным качеством модерной эпохи. Вначале рассматриваются теоретические и исторические аспекты процесса спортизации повседневности в Новое время. Далее говорится о нормативном измерении нового спортивного тела, формировавшегося в рамках повседневных культурных практик — как официальных, так и неофициальных. В третьем разделе работы внимание исследователя сфокусировано на пространственном измерении массовой спортивной активности в СССР. В четвертой части анализируется параллельное развитие советского спорта и СМИ, обеспечивших эффективные каналы пропаганды желаемых телесных образов. Отдельный раздел статьи посвящен футболу. В частности, указывается на изначально амбивалентное отношение коммунистических властей к самой популярной командной игре, оказавшейся в центре острых спортивно-политических дискуссий в раннем Советском Союзе. Называются уникальные свойства футбола, сделавшие его самым популярным видом спорта. Далее обсуждается вопрос структурной взаимосвязи физической культуры и советской системы, ключевой для понимания феноменальных успехов социалистического спорта на международной арене в постсталинский период. В заключительной части обсуждается сочетание в российском варианте модернизации, начавшейся в начале ХХ века, инновационных и архаичных элементов, ограничивающих операциональность семантики понятия «модерн» применительно к эмпирическим исследованиям. Завершает статью призыв автора интенсифицировать изучение отдельных дисциплин и других организационных форм, в которых институционально в конкретных национальных условиях получает историческую реализацию глобальный феномен спорта. |
|
|
173–194
|
За последние сто лет футбол из простой игры-развлечения превратился в один из факторов мировой политики, оказываю-щий влияние не только на умы и души сотен миллионов болельщиков, но и на политические, экономические, социальные аспекты современной жизни. В интервью с ведущим исследователем отечественного спорта М. Ю. Прозуменщиковым, одним из составителей сборника документов, выявленных в Российском государственном архиве новейшей истории, речь идет о создании советской системы партийного контроля над большим спортом (и прежде всего футболом), о взглядах руководителей СССР на возможность использования футбола в идеологических целях, о роли советского государства в поддержке и развитии массового футбольного движения. Также затронуты вопросы системы архивного хранения доку-ментов по спорту в СССР. Вначале обсуждается история возникновения издательской серии, посвященной спортивным мегасобытиям с участием советских спортсменов — Олимпиады-80, зимним Олимпийским играм и большому футболу. Далее исследователь рассказывает о трудностях, связанных с поиском релевантных документов о советском спорте в существующем архивном ландшафте современной России. Основная часть беседы посвящена структурным проблемам отечественного спорта, начиная с раннего СССР и заканчивая распадом системы госспорта при М. С. Горбачеве. В качестве отдельных тем затрагиваются такие важнейшие проблемы спортивного движения в Советском Союзе, как интернациона-лизация советского спорта вообще и спортивные взаимоотношения со странами социалистического лагеря в частности, баланс власти между ЦК, Спорткомитетом и другими значимыми акторами этого поля, «банальный национализм» на три-бунах советских стадионов и мн. др. Завершается интервью обсуждением перспектив спортивно-исторических исследований. |
|
|
195–222
|
Статья посвящена проблемам изучения газона как функционального и символического элемента спортивно-зрелищного пространства. В данной статье газон впервые становится предметом культурологического анализа в рамках истории спортивной архитектуры. В исследовании оцениваются исторические эпохи, когда флора в целом и газон в частности выступали элементами складывания спортивно-зрелищной культуры. На спортивных состязаниях в античности, в Новое время и в наши дни по-разному используется природное пространство и растительность. Во времена античности вытаптывают поверхность, не используют газон, но состязательная (агоническая) культура включает в себя культ священной рощи. Трансформация такого культа у кельтов приводит к формированию британской традиции газона. Ее развитие предполагает окружение зеленого поля для игр в мяч архитектурными сооружениями, выделение специального пространства в границах парка. В ХХ веке возникает стадион универсального типа, где зеленое футбольное поле занимает центральное место. В современности спортивный газон, как наследующий священной роще и парковому пространству, становится технически легко воспроизводимыми в силу этого повсеместно распространяется в виде частного земельного участка. Однако, несмотря на физическую трансформацию газон продолжает сохранять свой символический статус. |
Русская Атлантида
|
|
226–241
|
В эссе поднимается одна из острейших проблем человеческого общества — поведение людей в периоды резких социальных потрясений, таких как бунты и революции. Можно увидеть, как в эти эпохи исчезает из общества разум, как он засыпает, как сон рождает чудовищ, которые требуют вожака. А вожак сообщает толпе, что все позволено, обещая сначала «золотой сон», а затем «золотой век». Гуссерль видел первопричину европейского кризиса в закате разума. Революционный 1917 год в России, начиная с Февральской катастрофы, поражает оцепенелостью сторонников власти, они словно заворожены неведомой силой. Наступил «оцепенелый покой» (Хайдеггер). Исчезает личность, исчезает разум, является масса. После отречения императора, жившие «узкой действительностью настоящего» (Шопенгауэр), потерявшие способность рассуждать и оценивать последствия событий, элитарные части Русской армии, по наблюдению французского посла, шли присягнуть революционной власти, «названия которой они даже и не знали». Разум уснул не только у власти, но и у ее противников, наступил «великий дурман» (Бунин). Приехавшего в пломбированном вагоне через враждебную Германию, названного немецким шпионом, произнесшего слова о необходимости гражданской войны Ленина практически зомбированные массы принимают с восторгом. |
|
|
242–261
|
Настоящая статья посвящена рассмотрению философских и социологических подходов к русской истории и культуре Ф. А. Степуна. Предметом исследования является исторический и художественный образ России, созданный Степуном в философской публицистике и мемуарах. Особое место отводится выявлению основ философии культуры Степуна, а также развитию им специфического способа анализа культурной истории России, сочетающего философскую рефлексию с методом социологического наблюдения. В статье показано, что в социологических описаниях пореволюционной истории России Степун сохраняет логический каркас и философский лексикон неокантианской теории культуры. Он занимает позицию «включенного наблюдения» и обогащает интерпретацию событий приемами социологического анализа. В работе рассматривается, как Степун осмыслил идею России через социально-философский анализ большевизма. Статья эксплицирует главный историко-философский тезис Степуна, что в большевизме произошло перерождение политической идеи в идеологию и идеократию. Специальное внимание уделено тому, как Степун противопоставляет гуманистические ценности культуры ложным политическим идеологиям ХХ века, отрицающим свободу и христианскую веру. Прослеживается его философское решение проблемы Русской революции. Осмысляется философская идея русской культуры как формы существования творческой личности, обладающей свободой и религиозным опытом, что становится моральным кредо Степуна. |
|
|
262–283
|
Настоящая статья посвящена анализу самобытной «социологии Москвы» русского философа и социолога Федора Августовича Степуна (1884–1965), который родился, учился и долгие годы жил в Москве, вплоть до своей высылки большевистским режимом из Советской России в 1922 году. На большом фактическом материале автор показывает, как творческие переживания москвича Степуна были связаны с двумя разными периодами жизни Москвы — «до» и «после» Революции 1917 года. Москва перед Первой мировой войной — излюбленная тема Степуна-мемуариста. В отличие от многих авторов, называвших те годы «потерянным временем» для России, Степун, напротив, чрезвычайно высоко ценил тот период за его социальный динамизм и многообразное культурное творчество. Коренной москвич, Степун был воодушевлен быстрым предвоенным ростом старой столицы и неоднократно объявлял предвоенную Москву «золотым периодом» русской культуры. В этом он разделял идеи своих друзей по эмиграции Г. П. Федотова и В. В. Вейдле о том, что «просвещенная Россия» является «лучшей Европой». Особое место в статье отводится анализу отношения Степуна — аналитика и мемуариста — к радикальному преобразованию «метафизического ландшафта» Москвы после революции, которую Степун называет «экзистенциальным переворотом», сломавшим все привычные человеческие «идентичности». Согласно Степуну, большевистский переворот произвел буквально тектонический сдвиг человеческого бытия, не только выбив миллионы людей из привычных контекстов существования, но и до предела оголив все первичные, «экзистенциальные», смыслы человеческого существования. |
|
|
284–298
|
Федор Степун был своего рода мостом между немецкой и русской культурой. Особую роль в этой связи играло сотрудничество Степуна с католическим журналом «Хохланд», в котором Степун опубликовал целый ряд статей, после того как он в 1922 году был изгнан из Советской России. Анализу этих статей, в которых Степун пытался объяснить немецким читателям, что же произошло с Россией после свержения царя и после крушения созданной в феврале 1917 года хрупкой русской демократии, посвящена первая часть этого очерка. Хотя Степун был готов признать значительную долю ответственности русских демократов за начавшуюся в октябре 1917 русскую трагедию, он категорически отвергал распространенный среди русских эмигрантов тезис о демократах как «единственных, кто виноват во всех ужасах современного состояния России». Следующей темой, которой были посвящены статьи Степуна, опубликованные в журнале «Хохланд» в 1920-е годы, был анализ большевистского режима, первого тоталитарного режима в новейшей истории. Вторая часть очерка анализирует статьи Степуна, которые появились в журнале «Хохланд» после прихода Гитлера к власти в январе 1933 года. Будучи одним из последних бастионов «полусвободного слова» в нацистской Германии, журнал «Хохланд» и после 1933 года предоставлял Степуну, который оставался убежденным демократом, возможность публиковать свои статьи. Хотя статьи эти, как правило, были посвящены русской тематике, они содержали между строк также и критику тогдашних немецких порядков. |
|
|
299–316
|
Автор статьи реконструирует события 1917 года, приведшие к гибели одной из самых мощных армий Европы. Проанализировав воспоминания политических деятелей, представителей военного руководства, боевых генералов, тексты большевистских идеологов, архивные материалы и работы современных исследователей, автор приходит к выводу, что именно демократизация армии, начатая после Февральской революции 1917 года, привела к ее развалу. 1 марта был издан знаменитый Приказ № 1, ставший точкой невозврата для русской армии. Его пункты ударили по дисциплине и единоначалию. Дальнейшее военное законодательство только усугубило ситуацию. В статье проводится анализ основных инициатив Временного правительства касательно реформирования армейских институтов и подчеркивается, что данные инициативы способствовали не укреплению боеспособности ослабшей в процессе сражений на полях Первой мировой войны русской армии, а, напротив, ее разложению, формированию антиправительственных настроений и успешной пропаганде большевиков. Большевики в своей антиправительственной агитации делали ставку на разжигание «классовой ненависти» между офицерами и солдатами, что делало безоговорочное исполнение приказов командиров невозможным. Автор статьи подчеркивает, что любое государственное строительство внутри страны возможно только в том случае, если страна защищена мощной и боеспособной армией. Для того чтобы армия могла существовать как сила, ей необходима железная дисциплина и единоначалие. Армия, будучи опорой власти, сама должна быть ведома сильной и признанной властью. В 1917 году солдаты отказались признавать власть своих командиров, тем самым разрушив основу армии, что привело к ее полному развалу. |
Обзоры
|
|
317–341
|
В данной статье анализируются возможности и ограничения событийного анализа протестов (protest event-analysis) в изучении политической мобилизации. Событийный анализ, являясь разновидностью контент-анализа, позволяет воссоздавать динамику политической мобилизации и ее ключевые характеристики на основе разнообразных текстовых источников (отчеты полиции, дневники наблюдения, сообщения в массмедиа). История появления событийного анализа тесно связана с развитием сравнительного метода в социальных науках и конкуренцией теорий коллективного действия и социальных движений. Запрос на масштабные кросс-национальные сравнения и квантификацию социально-политических явлений вместе с пионерскими работами Чарльза Тилли создали предпосылки для систематического сбора данных о протестных событиях. Четыре поколения развития метода позволили не только сформировать ключевые понятия теории коллективных действий («структура политических возможностей», «цикл протеста», «репертуар протеста» и др.), но и значительно улучшить процедуры сбора и обработки информации о политической мобилизации, в частности, за счет триангуляции данных и полуавтоматического кодирования. В статье также анализируются источники систематических ошибок в сборе данных о протестных событиях (селективное освещение, ошибки описания и кодирования данных) и возможные варианты их корректировки. Рассматривается опыт применения событийного анализа протестов к российской реальности, указывается на особый характер вызовов, с которым сталкиваются исследователи, работающие с российским материалом (пространственная гетерогенность, низкое качество сообщений в СМИ в отсутствие значимых альтернативных источников, смещение в освещении протестов в сторону крупных городов). На примере создания базы данных «Состязательная политика в России» анализируются методики и варианты решений проблем, возникающих в ходе событийного анализа. |
Размышления над книгой
|
|
342–355
|
В издательстве «Polity Press» вышла монография Роджера Кейла, известного канадского урбаниста и организатора международных исследовательских проектов в области Sub/Urban Studies. В книге рассматриваются исторические, концептуальные и тематические вопросы глобальной субурбанизации, которая становится все более массовым и значимым явлением в разных регионах мира. Опираясь на внушительный корпус академической литературы в области городских и пригородных исследований, автор заявляет о необходимости пересмотра существующих основ построения городской теории, «западной» и «центристской» по своей природе. К этому его подталкивают, с одной стороны, расширяющаяся география пригородных исследований, знакомство с иными траекториями субурбанизации в регионах Глобального Юга и в постсоциалистических странах, а с другой — критика производного значения современных пригородов по отношению к городским центрам. Развивая свою мысль, Кейл обращает внимание на необходимость осознанной работы с понятийными конструкциями в этом предметном поле, которая должна учитывать иные традиции пригородных исследований и городской теории, а также языки описания, способы мышления и проведения исследований за пределами англосаксонской парадигмы. Возрастающее значение разнообразных форм периферийного городского развития в современном мире становится для автора поводом для пересмотра самих основ построения городской и социальной теории в целом. |
Рецензии
|
|
356–362
|
Huppes-Cluysenaer L., Coelho N. M. M. S. (Eds.). (2018). Aristotle on Emotions in Law and Politics. Berlin: Springer. 473 p. ISBN 978-3-319-66702-7 |
|
|
363–372
|
Юденкова Т. В. (2016). Братья Павел Михайлович и Сергей Михайлович Третьяковы: мировоззренческие аспекты коллекционирования во второй половине XIX века. М.: БуксМАрт. 528 с.; 96 с. Цвет. Вкл. ISBN 978-5-906190-38-3 |
|
|
373–379
|
Пинский А. (Ред.). (2018). После Сталина: позднесоветская субъективность (1953–1985). СПб.: Изд-во ЕУ СПб. 454 с. ISBN 978-5-94380-242-3 |
|
.jpg)

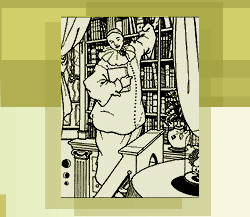

.png)

.png)


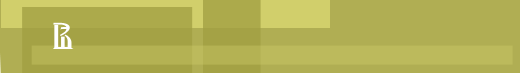
 ©
© 