.jpg)
|
Социологическая теория и методология исследований
|
|
9–29
|
В данной статье мы показываем, что благодаря своей специфической структурной позиции священник обладает исключительными возможностями для стимулирования и воспроизводства отношений дарообмена. Дарообмен представляет собой важную форму экономической интеграции, препятствующую как разрушительной конкуренции, так и иждивенческой зависимости от центральной власти. Опираясь на теорию дарообмена, мы показываем, почему развитие дарообменных отношений сегодня сдерживается: главным барьером выступает отказ от второго императива дара по М. Моссу — от обязанности принимать дар. С помощью аргументов М. Салинза и К. Грегори мы демонстрируем, что разблокировать отношения дарообмена позволяет появление «исключенного участника», который входит в отношения дарообмена, но в то же время гарантированно не имеет в них собственного интереса. Присутствие такого участника позволяет принимать от него дары, не опасаясь впасть в личную зависимость. Анализ нормативных представлений о функции священника в христианской теологии показывает, что позиция священника структурно предполагает «исключенное участие»: он одновременно является репрезентацией Христа (то есть действует не для себя и не от себя), и в то же время принадлежит к общине, выступая ее главой. Ключевая задача священника может быть определена как генерация дарообмена: историческая литература показывает, что именно на этом принципе традиционно строились христианские общины.
*Григорий Юдин включен Минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента |
Политическая философия
|
|
30–55
|
Последние десятилетия после краха СССР отмечены возвращением интереса к религии. Это возвращение оказалось столь внушительным, что дало повод говорить о «конце секуляризации», а современные общества характеризовать как «постсекулярные». Одним из наиболее ярких симптомов этого процесса стало возрождение интереса к политической теологии. Статья предлагает рассматривать политическую теологию не в узком смысле, а как потенциальную возможность, постоянно присутствующую в рамках мыслительных моделей, которые могли бы показаться исключительно секулярными. Такой подход иллюстрируется на примере трех случаев, обнаруживающих проявление политической силы религии. В качестве первого примера рассматривается объяснение иранской революции 1978 года, предложенное Мишелем Фуко. Введенное Фуко понятие «политической духовности» указывает на проблематику политической теологии не как на предмет наследия истории мысли, а как на живую политическую реальность, наполненную враждой и конфликтами. Второй случай посвящен разбору анализа взаимоотношений религий и постсекулярных обществ, предпринятого немецким философом Юргеном Хабермасом в первое десятилетие XXI века. Утверждается, что отстаиваемое Хабермасом «постметафизическое мышление» не может решить проблемы мирного сосуществования различных религиозных и политических мировоззрений в рамках публичной сферы современных западных обществ. Темой третьего случая является «проблема зла». Эту тему политической теологии, играющую роль важнейшей демаркационной линии в любых политико-философских построениях, теоретики радикальной демократии считают важной частью своей теории «не-суверенных» политических институтов, которые должны будут возникнуть в результате кризиса современной политической рациональности. Вывод статьи состоит в том, что политическая теология выступает не столько радикальной противоположностью светского политического разума или политической философии, сколько дополнительным ресурсом, открывающим новые возможности понимания в ситуациях кризиса, когда перестают работать знакомые нормативные объяснения. |
|
|
56–89
|
Эволюция политической мысли Томаса Гоббса в 1630–1640-е гг. отмечена заметным интересом к отношениям между политикой и религией, государством и церковью. Этот интерес нашел свое выражение в созданной английским мыслителем оригинальной версии политической теологии, наиболее полное изложение которой можно найти в его трактате «Левиафан». Свою концепцию политической теологии Гоббс считал эффективным способом решения теолого-политической проблемы Нового времени. В основу своей политической теологии Гоббс кладет новое истолкование ряда доктринальных положений христианского вероучения, призванное согласовать его с абсолютной властью светского суверена. Особое внимание в статье уделено рассмотрению тех прагматических стратегий, которые были предложены Гоббсом для обезвреживания взрывоопасного для гражданского мира и безопасности государства потенциала христианской религии. Показано также, что полное подчинение церкви государству в политической теологии Гоббса послужило отправной точкой для важнейшего этапа секуляризации западного мира, который привел к отделению политики от религии и государства от церкви. |
|
|
90–106
|
В статье проблематизируется круг вопросов, уже обсуждавшихся на ряде мероприятий ЦФС НИУ ВШЭ в течение 2017–2018 годов. В целом они связаны с рамочной темой возвращения сакрального, казалось бы, в давно секуляризированный мир позднего модерна. Конкретно речь идет о роли государства в этом процессе политической реабилитации трансцендентного. В качестве постановки проблемы фиксируются значительные структурные изменения в глобальном дискурсивном ландшафте, включающие в себя утрату глобалистским нарративом доминирующей роли, еще недавно выглядевшей незыблемой в ценностно-символической сфере. Ставится вопрос о возвращении государства как оператора посюстороннего спасения, обеспечивающего через свои институты включенность социального в мир трансцендентного, а также вопрос о круге спасаемых. Далее делается краткий историко-философский экскурс, призванный продемонстрировать укорененность проблемы границы объединенных трансцендентными ценностями солидарных сообществ в традиции социально-научного знания, начиная с античности. В следующей части через обращение к аристотелевскому пониманию политического формулируется партиципаторная модель взаимного признания членов определенной «мы-группы», структурно отделенной от других исторически контингентных сообществ судьбы. Приводятся примеры попыток концептуального преодоления неизбежной дискретности социальной онтологии со стороны универсалистского дискурса посредством возвращения на рынок идей космополитических утопий в виде проектов глобального гражданства, постнациональной инклюзивной политики и т. д. Затем реконструируется восходящая к Аристотелю и Руссо альтернативная линия аргументации, эксплицитно разработанная Карлом Шмиттом, в которой гомогенность постулируется в качестве условия возможности любого солидарного сообщества. В заключение делаются предварительные выводы относительно релевантности данной топики для теории социального порядка. |
Weber-Perspektive
|
|
107–148
|
В статье, в рамках логики, предложенной М. Вебером в «Протестантской этике и духе капитализма», делается попытка выделить ключевую для русского православия этическую категорию; категорию, которая могла бы выполнять ту же роль, что и Beruf (профессия/призвание) для анализа протестантизма и его потенциального влияния на формирование экономики. Делается попытка выделить данную категорию, опираясь на работы Вебера, посвященные анализу хозяйственной этики мировых религий. В частности, делается попытка интерпретации веберовской категоризации русского православия как «специфического мистицизма». Для расшифровки веберовского тезиса используются тексты Ф. Ницше и М. Шелера, в рамках заочной полемики которых и появляется веберовский тезис. Анализ текстов Вебера, Ницше и Шелера приводит к предположению, что подобной категорией может являться «смирение». В работах по социологии религии «смирение» используется Вебером для характеристики «мистицизма» в том же ключе, что и призвание для «аскетизма». Вместе с тем для построения типологии хозяйственных этик мировых религий Вебер переинтерпретирует учение Ницше о ресентименте. Для Ницше смирение часто оказывается синонимом ресентимента. В веберовской интерпретации тезис о ресентименте получил форму «теодицей страдания», в типологии которых смирение оказалось связанным с созерцанием, уходом от мира и т. д. — всем тем, что присуще мистицизму, как его понимал М. Вебер. Рецепция и критика тезиса о ресентименте была также осуществлена М. Шелером, который в своих работах смог противопоставить ресентимент и основную христианскую добродетель — смирение. Анализ заочной дискуссии Ф. Ницше, М. Вебера и М. Шелера о ресентименте и этике христианства позволил предложить типологию этик, как кажется, пригодную для построения гипотез о (потенциальном) влиянии православия на экономическую жизнь страны. |
Статьи и эссе
|
|
149–172
|
Автор статьи пытается (пере)осмыслить проблемное поле социально-философского знания. В тексте говорится, чем социальная философия принципиально отличается от теоретической социологии, исторической социологии и политической философии, на основании чего обосновывается утверждение, что социальная философия — самостоятельная и целостная дисциплина. Далее формулируются несколько возможных подходов к изучению общества, которые можно было бы охарактеризовать как «слабые программы» социальной философии. Утверждается, что на их базе может быть сформулирована «сильная программа» социальной философии. Такая программа должна органически сочетать в себе следующие установки — методологию неомарксизма, включая ориентацию на традиционные для этого течения объекты анализа; аккуратные и тщательные исследования, а также фундированность и концептуальность, т. е. обязательный выход за пределы отработанного эмпирического материала. Далее формулируется один из главных вызовов, с которым сталкивается и/или должна столкнуться социальная философия в ближайшем будущем. Перед социальной философией стоит сложная задача — сказать что-то осмысленное о времени, в котором мы живем, определить изменения в культуре и экономике, попытаться ответить на вопрос, что пришло на смену постмодерну, если он вообще существовал. На основании сказанного предлагается рабочая дефиниция социальной философии: многочисленные (не всегда) философские концептуализации социальных проблем, феноменов, сложных понятий, а также теоретические попытки интерпретации нашего и/или иного времени, во-первых, предполагающие нормативное измерение и, во-вторых, основанные на богатом эмпирическом материале. Обозначенный подход также можно объяснить через понятие «параллаксы лисы», предполагающее, что социальная философия занимается многими вещами, но старается путем тщательного и многофакторного исследования этих вещей взглянуть на изучаемую проблему по-новому или обнаружить ее эвристический потенциал. |
|
|
173–196
|
Одновременно с возникновением концепта «культура» предпринимались многочисленные попытки его имплементации в государственную политику, что требовало четкой и недвусмысленной дефиниции. В новом историческом контексте, в начале этого века была предпринята новая, ставшая известной как «дебаты о культурных и креативных индустриях». Статья посвящена прояснению основных позиций в этих недавних дебатах и подвергает критическому анализу попытку новой операционализации культуры с помощью и посредством экономического дискурса. Данная попытка осуществлялась под новым академическим слоганом «креативных индустрий», с которыми политики, международные и национальные функционеры, а также представители академических кругов связывали надежду на изобретение новой модели экономического роста. Один из главных тезисов статьи сводится к тому, что подобного рода операционализация неосуществима, поскольку «креативность», как и «культура», не поддается ни математизации, ни коммодификации, ни однозначному истолкованию. Политика «креативных индустрий» рассматривается через усилие к тотальной коммерциализации культурного производства и его глобальной стандартизации. В статье анализируются разные модели ее имплементации, а также ее итоги. Одним из важнейших итогов является постановка под вопрос «архаичности» тех форм знания о культуре, которые формировались в условиях, когда центральную роль играли национальные государства: государственная статистика оказывается неуместной и неадекватной в условиях, когда корпоративный сектор полностью определяет культурное производство. В связи с этим с особой остротой встает вопрос: нуждается ли государство в целостном представлении о культуре и в осуществлении функций контроля в данном секторе производства. В перспективе данного вопроса ставится проблема о целесообразности политики креативных индустрий в Российской Федерации. |
|
|
197–220
|
Статья посвящена рассмотрению специфической роли, которую в политической реальности общества позднего модерна играет феномен идеологии. Во введении авторы статьи отмечают как устойчивый интерес к вопросам конкуренции идей и идеологий в современном мире, так и нарастающие сомнения в применимости сложившихся теорий идеологии для описания и осмысления подобной конкуренции. Далее, понимая идеологию как ориентированные на действия системы убеждений, авторы рассматривают сложившиеся в социально-гуманитарной науке наработки в области описания статуса таких систем в обществе позднего модерна. Авторы отмечают, что версии о полном исчезновении идеологии из политического процесса общества позднего модерна не находят полноценных эмпирических доказательств, несмотря на то что некоторые аргументы сторонников таких версий вполне убедительны. В ходе анализа теоретических моделей позднего модерна авторами показано, что общество этого периода создает особые условия для проявления идеологии, выражающиеся в диверсификации информационного пространства, снижении роли политических партий, имиджевой дискредитации многих фундаментальных идеологических проектов и редукции классовой борьбы. Базовые гипотезы авторов соотнесены с результатами собственного социологического исследования идеологической конкуренции в российском обществе накануне выборов в Государственную Думу 2016 года, что позволило в итоге описать идеологию в современной России как гибридную по ценностному ядру, локальную по своей риторике, дисперсивную по субъектам артикуляции систему. Таким образом, авторы обосновывают тезис о принципиальной возможности описания политических процессов общества позднего модерна с использованием термина «идеология», который в новых условиях не утрачивает своих эвристических возможностей, но приобретает новые свойства и требует «перенастройки» методологического аппарата самих социальных наук. |
|
|
221–239
|
В статье ставится задача, во-первых, определить адекватную современным реалиям методологию социологического анализа культуры и, во-вторых, зафиксировать на данной методологической основе специфику культуры современного российского студенчества в транзитивном, переходном социуме. Утверждается, что становление инновационного общества в глобальном масштабе приводит к перманентному разрушению старых и одновременно возникновению новых социокультурных форм, в результате чего культура становитя прежде всего не «охранительницей устоев», а активной «бродильной» силой социума. В данных нелинейных процессах особую значимость приобретает субъективная культура. Проводится анализ моностилизма и полистилизма студенческой репрезентативной культуры, основанный на идеях Ф. Тенбрука. Зафиксировано, что данные процессы репрезентации носят противоречивый и гибридный характер. Ценности постматериалистического плана (самостоятельность, индивидуальность, свобода), высоко ценимые студенческой молодёжью, репрезентируются прежде всего в сфере досуга и свободного времяпрепровождения. Представленная типология жизненных стилей студентов в области учебной деятельности («профессионалы», «ритуалисты», «общественники» и «конформисты») фиксирует преимущественно приспособленческую стратегию поведения, основанную на принятии патерналистского отношения со стороны администрации и профессорско-преподавательского состава вузов. Статья основана на материалах авторского межрегионального социологического исследования, проводившегося в 2006–2011–2016 годах в Южном федеральном округе. |
Русская Атлантида
|
|
240–255
|
Русско-турецкая война 1877–1878 гг. породила как со стороны правительства, так и со стороны общества запрос на соответствующую живописную репрезентацию, оцениваемую в категориях «высокого искусства», и выявила неспособность преобладающей эстетики его удовлетворить. Живописные работы, посвященные сюжетам предшествующего Балканского кризиса 1875–1876 гг., легко апеллировали к имеющемуся арсеналу изобразительных средств, в первую очередь обращаясь к ориенталистским мотивам и задействуя интернациональный ориентальный художественный язык. В этом случае таким живописцам, как К. Маковский или В. Поленов, даже не приходилось для достижения эффекта прибегать к некоторым инверсиям, наличествующим в «Туркестанском цикле» В. Верещагина — наличный, разработанный художественный язык позволял без потерь передать желаемое содержание. Напротив, попытки представить живописные репрезентации Русско-турецкой войны обнаружили, что прежняя баталистика уже не воспринимается как собственно «искусство» и не расценивается как надлежащая фиксация «достопамятных событий», а преобладающая новая эстетика оказывается не способной передать желаемые властью пафос и героику. Вместе с тем обнаружилось, что сильный эстетический эффект в военных сюжетах достигается посредством «сериальности», трактовка аналогичных сюжетов как изолированных, самостоятельных не производила значимого эффекта, т. е. живопись как таковая оказывалась несамодостаточна, нуждаясь в помощи текста, последовательности изображений и т. д. Проблема оказалась снята в рамках новых эстетик XX века, однако в последние десятилетия XIX века в связи означенными затруднениями для живописи приобрели новую ценность исторические сюжеты, предоставляя новые возможности для репрезентации героической тематики и одновременно давая большую эстетическую свободу. |
|
|
256–290
|
Тема Русской революции является центральной как для повести А. В. Чаянова «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», так и для романа А. П. Платонова «Чевенгур». Предпринимается сравнение хроники и образов Революции в биографиях Чаянова, Платонова, главных героев, жанров, сюжетов, структур утопической повести и утопического романа, ставятся вопросы постижения истории Русской революции и возможных альтернатив ее развития. Особое внимание уделяется не только социально-экономическому устройству утопической Москвы и утопического Чевенгура, но также этическо-эстетическим основаниям обеих утопий. Показано, что две утопии воссоздают, описывают, критикуют Революцию, часто с абсолютно противоположных точек зрения и позиций. В целом Чаянов в своей утопии придерживается релятивистских и плюралистических взглядов на Революцию и историю. Платонов, наоборот, во главу угла своей утопии закладывает принципы абсолютизации конца человеческой истории при эсхатологическом наступлении коммунизма. Русская революция в утопии Чаянова предстает сбывшейся альтернативой гуманистическо-прогрессистских идеалов столичных элит умеренных народническо-социалистических направлений Февральской революции. Революция в утопии Платонова выражает себя в альтернативе эсхатологическо-экологического преобразования мира, осуществляемого провинциальными бунтарями, воодушевленными Октябрьской революцией. Так чаяновская либерально-кооперативная и платоновская анархо-коммунистическая утопии, содержа в себе одновременно и апологию, и критику Русской революции в прозрениях ее прошедших и грядущих побед и поражений, открывают новые горизонты постижения российских революционных альтернатив. |
Обзоры
|
|
291–328
|
В настоящей работе рассматриваются дискуссии вокруг гипотезы модернизации, согласно которой экономическое развитие является причиной установления демократии. Гипотеза модернизации была сформулирована в экономических и социально-политических реалиях середины ХХ века. С тех пор многое изменилось — и сами общества, и представления о них. Однако эти изменения не учитываются в современных исследованиях взаимосвязи экономического развития и демократии; данная работа ставит своей целью восполнить этот пробел. В статье прослеживается, как с неолиберальным поворотом изменились представления об экономическом развитии и демократии, а также те социальные трансформации, к которым привела реализация неолиберальной экономической политики. В частности, речь идет о росте неравенства и подъеме популизма, которые трактуются как угроза либеральной демократии. В то же время гипотеза модернизации опирается на предположение, что экономическое развитие приводит к выравниванию доходов и формированию широкого слоя среднего класса. Как показывает анализ, в целом эмпирические исследования подтверждают наличие связи между экономическим развитием и демократизацией. Но экономический рост не обязательно влечет за собой более равномерное распределение доходов. Рост популизма косвенно подтверждает справедливость гипотезы модернизации и позволяет сделать вывод, что в демократизации важную роль играет не только установление либеральных институтов, но и изменение социальной структуры вследствие выравнивания доходов. |
|
|
329–345
|
Одним из проявлений глобализации считается усиление пространственной подвижности населения в целом и вовлечение всё большего количества граждан в процессы международной миграции в частности. Однако процессы, способствующие движению и глобальным связям, одновременно порождают физическую и социально-политическую иммобильность, отчуждение и разобщённость. Феномен (им)мобильности рассмотрен в статье с политологической точки зрения. Используя институциональный подход, автор характеризует (им)мобильность как процесс, с одной стороны, обусловленный деятельностью международных и национальных политических институтов — с другой, стимулирующий возникновение формальных и неформальных политических практик. Государственное регулирование трансграничной миграции выражается в требовании убедительных оснований для легального въезда на территорию того или иного государства, в развитии дистанционных форм управления мобильностью, использовании финансовых механизмов и введении ограничительных миграционных мер. Ограничительные практики модерна встречаются с цифровыми практиками постмодерна. При этом политические барьеры препятствуют движению как потенциально опасных групп и индивидов, так и не представляющих угрозу обществу граждан, нарушая права и свободы, так называемые «права на мобильность». Инициативы политических партий и общественных объединений закрывают мобильным гражданам доступ не только к политическому лидерству, но и к участию в формировании политической повестки. |
Размышления над книгой
|
|
346–355
|
В статье рассматривается новая монография российского философа и культуролога, профессора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» О. А. Жуковой. Предметом обсуждения статьи является предлагаемый Жуковой философский подход к анализу культурной истории России, опирающийся на основные идеи и сюжеты истории и актуального состояния русской общественной и религиозной мысли. Автор книги создает широкую панораму развития российской истории, выявляя особенности формирования ценностной структуры и специфику бытия национальной культуры. Жукова рассматривает русскую культуру как сложный результат взаимодействия религиозных, политических и художественных традиций, их преемственности и их разрывов. В монографии прослеживается путь формирования русского типа философствования с его повышенным вниманием к проблемам истории, культуры, нравственности и творчества. В статье показано, что автор, анализируя социальные и духовные трансформации, происходившие с русским обществом при переходе от традиционной культуры к модерну, продолжает линию познания национальной истории, начатую русскими философами-европеистами в XIX — первой половине XX века. Жукова создает любопытную реконструкцию отечественной культуры, осуществляя историко-философскую рецепцию наследия русских мыслителей. Данная работа представляет собой критический анализ исследования Жуковой. Помимо рассмотрения культурологической концепции О. А. Жуковой автор статьи размышляет и об идеальной модели, и о практике редакционно-издательской деятельности. Анализируемый текст исследуется автором статьи не только как плод работы ученого-исследователя, но и как результат деятельности издательства, специализирующегося на публикации научной литературы. Статья демонстрирует «зоны ответственности» ученого — автора текста и редакционно-издательских работников, готовящих книгу к встрече с читателем. |
|
|
356–378
|
Рецензия на книгу Я. Плампера «История эмоций» вряд ли смогла бы полностью отразить все затронутые автором проблемы в современной науке об эмоциях, поэтому автор данной статьи ограничился значением монографии Плампера для социологического исследования эмоций, выделив некоторые моменты пересечения истории и социологии эмоций, в частности социологическое объяснение современного «эмоционального поворота» в науке. Главное теоретико-методологическое противостояние — между социальным конструктивизмом и универсализмом/натурализмом — затрагивает сегодня все социальные и гуманитарные науки об эмоциях, и от выбора позиции в этом вопросе зависит будущее исследователя в данной области. Именно такой выбор и позволяет сделать эта книга, склоняя исследователей к синтетическому подходу. Она помогает обогатить социологическое изучение эмоций фактическим материалом и новой терминологией. Одной из важнейших задач книги является объяснение изменения эмоциональной культуры современных обществ, с которым, по мнению автора статьи, связан «взрыв» интереса к эмоциям в науке и повседневной жизни: возможно, начинается новый «сентиментальный век» как непреднамеренное последствие рационализации всех сторон жизни общества. Сочетание рационального отношения к эмоциям и одновременно особое внимание к чувствам, взрывы коллективных эмоций, настойчивый поиск аутентичных чувств характеризуют эмоциональную культуру современности. |
Рецензии
|
|
379–388
|
Lawler S., Payne G. (eds.). (2018). Social Mobility for the 21st Century: Everyone a Winner? L.: Routledge. 184 P. ISBN 9781315276588 |
|
.jpg)



.png)

.png)


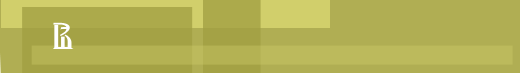
 ©
© 