.jpg)
|
Политическая социология
|
|
9–25
|
The article addresses the notion of communism with a special angle of factuality and negativity, and not in the usual sense of a futurist utopia. After considering the main contemporary theories of communism in left-leaning political thought, the author turns to the Soviet experience of an “actually existing communism.” Apart from and against the bureaucratic state, a social reality existed organized around res nullius, that is, an unappropriated world that was not a collective property, as in the case of res publica. The alienation from things and from the state resulted not only in the sense of oppression, but in a new culture of a paradoxical “communality” (A. Zinoviev), where the “Other,” be it a thing or a person, appears rather as ground, not figure. This culture of a non-thematic gaze led to a formation of a communality as a given, and not as a utopian desideratum. I claim that this is a major difference between the current Western society and a post-Communist society. The former is more solidary and collectivist, but only consciously and deliberately so, operating from an individualist ontology, while the latter is individualist, but with an assumption of the “Other” as a pre-given fact. In this chiasmus, both “communisms” are problematic, so that an alternative model of individuation (Virno), rather than the atomization of an assumed collectivity, would be preferable. |
|
|
26–37
|
The “Arab Spring” uprisings have unexpectedly led to a strikingly fast and worldwide movement of opposition to governments and economic powers. This sudden and unpredictable outbreak of protest has given birth to a new form of political action, which may be called “gatherings”, i.e. people taking to the streets and occupying squares to claim a radical change of the political order through demands for a better or renewed democracy. Gatherings are innovative as they arise outside traditional ways of expressing political grievances (i.e. through parties, trade unions, NGOs and associations), have neither leader nor program, advocate non violence and disavow the system of representative government. This new way to practice street politics opposes ballot box politics as it claims direct democracy (general assemblies, open meetings, no decision by a majority, equally shared responsibilities, transparency, etc.) while ardently endorsing non violence. This commitment is contentious: how can one pretend toppling the rule of the rich and the powerful who benefit from an entrenched system of domination without making use of violence to oust them from their privileged position? This article aims at clarifying the terms of this question by exploring the way resorting to violence has been debated in many of these gatherings. |
|
|
38–51
|
Восстания «арабской весны» неожиданным образом привели к поразительно быстрому всемирному движению протеста против правительств и экономических держав. Эта внезапная и непредсказуемая вспышка протеста породила новую форму политического действия, которое можно определить как «собрания», имеющие место, когда люди оккупируют улицы и площади для того, чтобы потребовать радикальной смены политического порядка через улучшение или обновление демократии. Собрания инновационны, поскольку возникают за рамками традиционных способов выражения политического недовольства через партии, профсоюзы, общественные организации или ассоциации. У них нет ни лидера, ни программы, они поддерживают принцип ненасилия и отказываются от системы представительного правления. Этот новый способ осуществления уличной политики противостоит политике голосования, поскольку требует прямой демократии (общих собраний, открытых заседаний, отказа от решений большинства, равно распределенных обязанностей, прозрачности и т. д.), при этом горячо отстаивая принцип ненасилия. Такая приверженность является спорной: как можно свергнуть богатых и держателей власти, получающих выгоду от укрепившейся системы господства, не применяя насилия ради лишения их привилегированного положения? Статья направлена на прояснение этих вопросов путем исследования того, как обращение к насилию обсуждалось на многих собраниях. |
|
|
52–97
|
В статье предпринята попытка охарактеризовать полицейский порядок эпохи абсолютизма в России (конец XVII — начало XX века) как режим принуждения. В то время как европейские государства освобождались от форм феодальной зависимости, в Российской империи вплоть до конца XVIII века усиливалась крепостная зависимость основной массы населения — крестьян центральной и черноземной России. Утверждается, что абсолютизм испытывал хронический дефицит ресурсов легитимации. Этот дефицит в петровскую и екатерининскую эпохи компенсировался периодическим наращиванием репрессивного полицейского аппарата под прикрытием заимствованной из европейских государств идеологии камерализма. В первой трети XIX века, вследствие политического кризиса режима принуждения, происходит смена идеологического декора камерализма на консервативную формулу «православие, самодержавие, народность». В конце XIX века осуществляется последняя идеологическая трансформация, обусловленная политическим кризисом 1870-х годов: на передний план выдвигается религиозное санкционирование неограниченного самодержавия. Выдвигается теоретическая концепция, согласно которой основную угрозу стабильности режиму принуждения несли процессы дефляции власти, форсированных структурных изменений общества в результате военных мобилизаций и ситуативные формы политизации на основе обострённого восприятия власти как зла, которое невозможно больше терпеть. На историческом примере Февральской революции 1917 года демонстрируется, что темпоральное совпадение этих трех процессов, достигших наивысшей интенсивности в ходе Первой мировой войны, привели к краху российского абсолютизма и характерного для него полицейского порядка. |
|
|
98–116
|
Теория революции Алена Турена выступает разновидностью так называемых теорий «конца революции». По мнению автора, революция была «общей магистралью современности», однако по мере того как универсализм разума (унаследованный от философии Просвещения) и понимание современности как изменения вытесняются партикуляризмом поисков идентичности и видением современности как конфликта, революция превращается в антиреволюцию. Оригинальность подхода Турена состоит в том, что он отказывается от европейской традиции определять революции и общественные движения друг через друга или рассматривать их как тесно связанные. «Социология действия» предлагает обратное видение: там, где нет общественных движений (или появляется то, что Турен называет «антидвижениями»), возможна революция и, наоборот, там, где есть общественные движения, там революции быть не может (или имеет место антиреволюция). Революции противостоят общественным движениям, как универсализм эволюционизма противостоит партикуляризму историцизма. Турен отстаивает взгляд на современность как на нечто среднее. Современность как сложный конфликтный «сплав» универсализма разума, технологии с партикуляризмом культурных, национальных, классовых идентичностей. «Конец революции» не предполагает конца истории, конца социального изменения, конца политики или конца неинституциональной борьбы за власть. Антиреволюции, безусловно, обладают революционными аспектами, однако борьба общественных движений с всепроникающим воздействием больших централизованных аппаратов управления носит прежде всего оборонительный, а не наступательный (как в случае революции) характер. Это не борьба «за» власть, за сокращение дистанции между управляющими и управляемыми, а «против» универсализирующего «программирования», борьба за «счастье» как индивидуализированное (зачастую даже «популистское») видение такой организации общества, которая соответствует групповой идентичности. |
Русская Атлантида
|
|
117–138
|
М. П. Погодин в 1830-х — 1850-х гг. был одним из наиболее заметных русских публицистов, претендовавших на роль выразителей доктрины «официальной народности», более того, являвшимся одним из ее создателей. Детальный анализ его взглядов на «славянский вопрос» позволяет раскрыть не только его взгляды по данному направлению русской политики, но и реконструировать понимание им «народности», нациестроительных процессов у южных и западных славянских народов, а отчасти и у велико- и малороссов. Интеллектуальное формирование Погодина приходится на конец 1810 — начало 1820-х гг. — сложившееся в эти годы понимание «народа», исторического процесса и т. п. (представления в духе ранней романтики, постгердеровского типа, с сильным влиянием просвещенческой мысли), окажется устойчивым, характерным для суждений Погодина зрелого и позднего периодов. В двух письмах, поданных министру народного просвещения С. С. Уварову (в 1839 и 1842 гг.) и затем в серии писем и записок, созданных во время Крымской войны, Погодин предлагает программу активной поддержки национального движения среди славянских народов, нацеленную на распад Австрийской империи (участь империи Османской мыслится Погодину самой собой разумеющейся). Для этого империя должна активно усвоить националистическую политику, причем узловым становится решение «польского вопроса», как принципиального затруднения на пути привлечения на свою сторону других славянских народов: на протяжении 1830-х — 1850-х Погодин предложит несколько вариантов политики в отношении Польши, от культурной автономии вплоть до предоставления независимости (и поддержания ее притязаний на территории, принадлежащие Австрийской империи и Прусскому королевству). В качестве решающего критерия национальной идентичности однозначно выбирается лингвистический, т. е. язык «простого народа». Анализ взглядов Погодина позволяет сделать вывод, что он был далек от поддержки существующей государственной политики, выступая автором принципиально отличной от нее программы. |
Социологическое образование
|
|
139–154
|
В данном тексте Лукман, спустя более чем 20 лет после выхода первого издания «Невидимой религии», обобщает и проясняет свою позицию, изложенную в самой книге. Он спорит с представлением о падении роли религии в современном обществе и о растущей светскости нашего времени, настаивая на таком понимании религии, которое не сводило бы ее к интуициям западного человека. Основанием для определения религии для Лукмана становится понятие трансценденций, которые он делит на «малые», «средние» и «большие». Именно опыт последних, «больших», трансценденций, уводящих человека прочь от повседневности в иную реальность, играет ключевую роль в возникновении того, что подразумевается под религией. Иерархии трансценденций поставлена в соответствие иерарахия знаков, которые позволяют превратить содержание субъективного опыта трансценденций в интерсубъективную реальность. Средством аппрезентации «больших» трансценденций оказывается символ, а его реализацией в качестве социального действия — ритуал. Благодаря определенному набору коммуникативных действий, через посредство символических и языковых средств происходит превращение субъективного опыта трансценденции в объективную социальную конструкцию, так что опыты трансценденций становятся интерсубъективными и в виде этих символических конструкций подвергаются обсуждению, изменению и толкованию. В заключение Лукман обращается к положению религии в современном обществе, характеризуя его как «приватизацию» религии. Для Лукмана важно, что пошатнувшееся положение традиционных религий и ритуалов никоим образом не позволяет говорить о снижении общей религиозности, поскольку значение «больших» трансценденций не уменьшилось; речь может идти только о смене прежнего способа существования религии в обществе. |
|
|
155–170
|
Данная статья представляет собой объединение небольших текстов, которые были подготовлены для словаря по социологии религии и посвящёны пяти важнейшим, на взгляд автора, концептам этой дисциплины. Ряд концептов, которому посвящена статья, начинается с термина «конверсия религиозная», при этом рассматривается как история понятия, так и специфический социальный контекст, функцией которого являются соответствующие события и процессы. Далее рассматривается понятие «харизма», при этом особое внимание уделено эволюции соответствующих мифологем, а также сценариям их адаптации к специфическим контекстам социологии, политологии и бизнес-менеджмента. Центральное место в статье занимает аналитика понятия «священное», которое рассматривается как интегральное определение предметов религиозного опыта. Вслед за этим рассматривается понятие «гражданская религия», соответствующий круг явлений рассматривается как структура, которая опосредствует связи между политической культурой общества и религией. Этот ряд концептов замыкает термин «идентичность религиозная», трактуемый как обозначение структур, инвариантных повседневному религиозному опыту индивида и возникающих в результате идентификации одновременно как по отношению к трансцендентным «предметам веры», так и к соответствующему культовому «сообществу верных». С целью более удобного освоения материала понятия расположены в порядке конверсии «человека естественного», каковы мы все от рождения, и образуют вполне адекватное введение в предмет социологии религии. |
Этнометодология и конверс-анализ
|
|
171–175
|
Liberman K. (2013). More studies in ethnomethodology / Foreword by H. Garfinkel. Albany: SUNY press. 300 p. ISBN 978-1-4384-4619-6 |
Обзоры
|
|
176–233
|
Статья содержит критику современного состояния такой дисциплины, как теория и история идей. Ортодоксальные исследования в области теории и истории идей противопоставляются современным социальным исследованиям связей между рациональным и социальным. Обосновывается необходимость изменений в исследовательских практиках этой дисциплины, позволяющих избежать двух типичных концептуальных ловушек — эпифеноменализма и редукционизма. Особое внимание уделяется источникам и агентам влияния ортодоксии на исследовательские практики современной теории и истории идей. В частности, подробно рассматриваются исследовательские практики немецкой классической филологии XIX века (Klassische Philologie), которые получили широкое академическое признание благодаря деятельности таких влиятельных школ, как филология слов Готфрида Германа (Wortphilologie) и филология вещей Августа Бёка (Sachphilologie). Именно эти исследовательские практики стали орудием экспансии филологии в XIX веке на территории соседних дисциплин, и прежде всего на территории, занятые представителями истории. Активное заимствование этих практик и создание в трансграничных дисциплинарных областях зависимых от филологии ассоциаций исследователей оказывало влияние на формирование ортодоксального исследовательского канона в теории и истории идей. Это влияние оказалось столь масштабным и значительным, что даже после ухода филологии с мировой научной авансцены в самом начале XX века, следы этого влияния можно обнаружить в исследовательских практиках многих современных дисциплинарных программ теории и истории идей (в частности, истории идей А. Лавджоя, школы Анналов Л. Февра, Кембриджской школы истории К. Скиннера и Дж. Покока, социальной истории понятий Р. Козеллека). В заключении статьи дается краткий обзор некоторых наиболее перспективных направлений развития неортодоксальной и более социо-ориентированной теории и истории идей. |
Рецензии
|
|
234–241
|
Fassin D. (2013) Enforcing Order: An Ethnography of Urban Policing. Cambridge: Polity. 320 p. ISBN 978-0-7456-6480-4 |
|
|
242–258
|
Сонтаг С. (2013). О фотографии / Пер. с англ. В. Голышева. М.: Ад Маргинем. 272 с. ISBN 978-5-91103-136-7 |
|
|
259–267
|
Löw M., Ruhne R. (2011). Prostitution: Herstellungsweisen einer anderen Welt. Berlin: Suhrkamp. 216 s. ISBN 978-3-518-12632-5 |
|
.jpg)



.png)

.png)

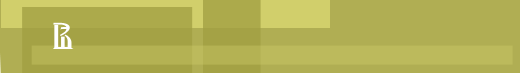
 ©
© 